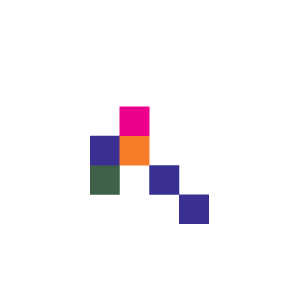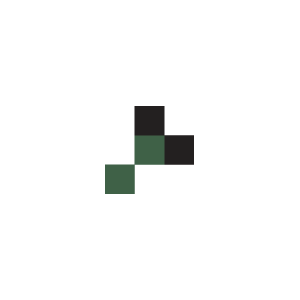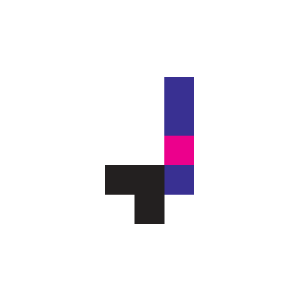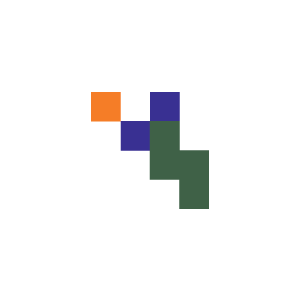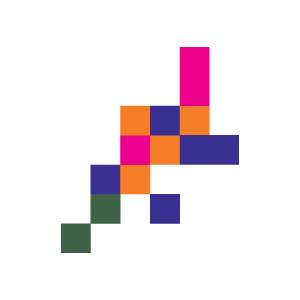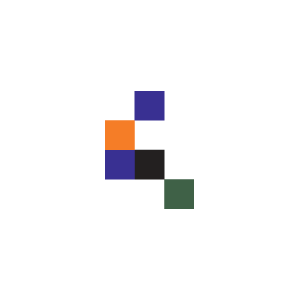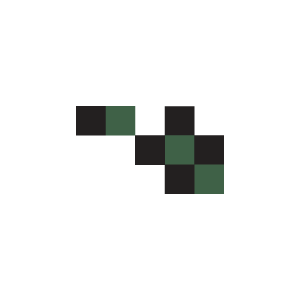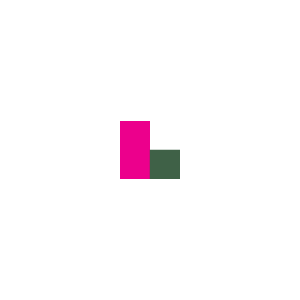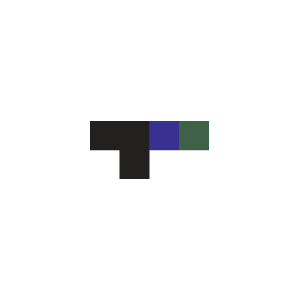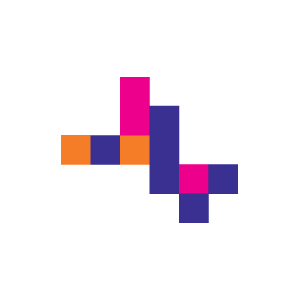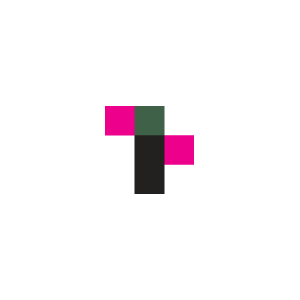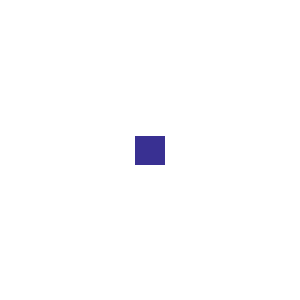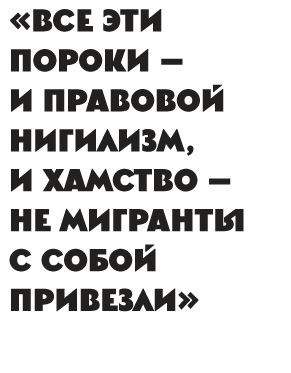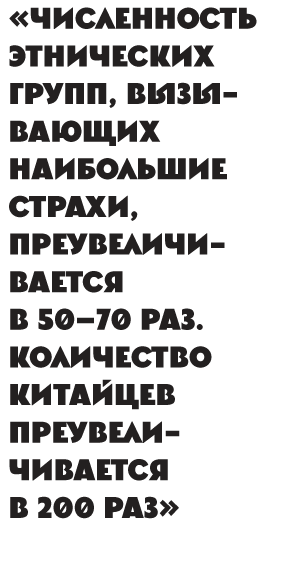Владимир Малахов
«Неинтегрированных мигрантов не бывает»
— Мигранты для Москвы — это угроза или ресурс?
— Конечно, прежде всего ресурс. Есть такое выражение — капитал разнообразия. Чем динамичней развивается город, тем больше разнообразия. И его не надо бояться! Москва — уникальный город, она входит в рейтинг мировых городов, которых на планете всего 40. На протяжении последних 120 лет город ежегодно получает 100 тысяч человек нового населения за счет миграции — за исключением периодов, которые приходятся на революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны. Приезжали прежде всего люди из других регионов России, плюс — выходцы из других советских республик, а ныне новых независимых государств. Сегодня большинство наших иммигрантов — граждане именно этих государств. И есть огромная разница между выходцем из Азербайджана, приехавшим в Москву, и выходцем из Вьетнама — в Париже или выходцем из Турции — во Франкфурте-на-Майне. Поэтому мне непонятна одержимость, с которой у нас рассуждают об «инокультурности», «культурном противостоянии» и прочем. Если говорить о социокультурном взаимодействии, то скорее это взаимодействие людей, а не «этносов». Тот факт, что по переписи 2010 года 91% москвичей назвали себя русскими, меня очень радует. Она показывает, что люди, к каким бы этническим группам они ни принадлежали, мыслят себя как часть одного и того же социокультурного большинства, точнее — социокультурного мейнстрима.
— Насколько вообще можно доверять статистическим данным о национальном составе населения Москвы?
— Во-первых, если сравнить цифры экспертов и цифры лидеров национальных общин, получится разброс в сотни раз. Лидеры общин говорят иногда о безумных количествах — например, о проживании в Москве более миллиона татар. Понятно, что чем больше цифра, тем выше их статус. Во-вторых, есть принципиальная разница между статистическими фикциями и реальными единицами социального действия. Вот пример:
— А к тому, как власти города работают с этническими сообществами, вы как относитесь?
— Начиная с Лужкова вся государственная политика сводится к поддержке лидеров. Бюрократам так удобнее: если в Москве проживают 120 народов, то должно быть 120 лидеров этих народов. Хотя совсем не факт, что эти люди реально кого-то представляют. Во-первых, идет серьезная борьба между выходцами с бывшей советской периферии, Закавказья и Средней Азии за то, кто будет их представлять. У нас в какой-то момент было восемь грузинских и четыре армянские организации, каждая из которых претендовала на представительство соответственно всех российских грузин и армян. Ведь государственные гранты и другие финансовые потоки направляются именно юридическим лицам.
Во-вторых, чаще всего человек, объявляющий себя, например, главным армянином России, никак не влияет на жизнь реальных гастарбайтеров из Армении, которые приехали сюда
— Главная общественная претензия к мигрантам — их нежелание интегрироваться в местную культуру. Стали появляться даже попытки утвердить некую общегородскую идентичность на законодательном уровне — сочинить «Кодекс москвича» и заставить всех приезжих ему следовать. Это может хоть как-то сработать?
— Это очередной бюрократический симулякр. Поведение и внешний вид мигрантов — не проблема культуры, а социальная проблема. Таджики в Москве не соответствуют дресс-коду, плохо знают русский язык и замыкаются в своем кругу не потому, что во что бы то ни стало хотят удержать свою культурную идентичность. Причины более прозаические — сверхэксплуатация этих людей, блокирование легального трудоустройства и дискриминация — в оплате труда прежде всего. В неразрешении этих проблем заинтересован большой бизнес и часть чиновников, для которых гастарбайтеры являются источником сверхприбылей.
В этой ситуации сколько кодексов ни пиши, у мигранта нет ни физических, ни моральных возможностей измениться. Если он работает с утра до ночи без выходных, живет в вагончике или в полуподвальном помещении с еще полсотней таких же, как он, есть ли у него возможность адаптироваться в том смысле, который все в это слово вкладывают? Он ведет себя так не потому, что приехал в Москву пестовать свою идентичность или качать культурные права, он просто поставлен в такие условия. Человек, который работает 80 часов в неделю без выходных, — ему не до культуры. Он как машина.
Но совсем неинтегрированных мигрантов не бывает. Интеграция — это прежде всего включение в социально-экономическую жизнь. Так он сразу после приезда куда-то да интегрируется. Даже те китаянки, которые делают соус для китайских ресторанов где-нибудь в подвале возле метро «Сокол», тоже по-своему интегрированы. Для них даже ежедневные газеты издаются на китайском языке.
Вопрос не в том, хотят они или не хотят интегрироваться, а — могут или не могут. И что делается для того, чтобы могли. Потому что большинство-то, конечно, хочет. Иначе зачем им сюда приезжать? Наладить свою жизнь, дать шанс своим детям — вот главный мотив у 99,9% приезжающих. Мы не берем преступные элементы, их сотая доля процента, это совершенно особая группа.
И еще один момент: когда чиновники говорят, что корень зла — в нежелании приехавших «соблюдать наши традиции», хочется спросить, а какие, собственно, традиции имеются в виду? У русских есть традиция, например, неумеренного пития крепкого алкоголя. Мы точно хотим, чтобы приехавшие эту традицию усвоили? Может, пусть лучше останутся непьющими мусульманами?
— Что такое этнический конфликт с социологической точки зрения?
— Везде, где взаимодействуют люди, есть трения. Более того, если человек сталкивается с хамством, и тот, кто ему нахамил, от него этнически (фенотипически) отличается, болезненность реакции удваивается — это естественное психологическое явление. Но сами по себе этнические различия не источник проблем. Они лишь накладываются на уже существующие социальные проблемы.
Это иллюзия — думать, что все дело в «этничности», и верить, что если бы среди нас не было «этнически чуждых» мигрантов, то все бы уважали закон, не грубили друг другу, уважали правоохранительные органы. Все эти пороки — и правовой нигилизм, и хамство — не мигранты с собой привезли. Можно сказать сильнее: какая-то часть приезжих с Кавказа как раз адаптировалась к тому способу поведения, который здесь господствует. Повышенная агрессивность, неуважение к окружающим — мигранты копируют эти паттерны поведения. Они начинают вести себя так, как здесь принято, у себя дома они так себя не ведут. Это тоже адаптация, как ни парадоксально.
— Но этническая преступность все-таки существует?
— Любая организованная преступная группировка основана на принципе доверия, а не на принципе этничности. Дело не в том, что члены банды из одной этнической группы, а в том, что они, скажем, в одной тюрьме сидели и по этой причине друг другу доверяют. К тому же любая ОПГ формируется по географическому принципу — воркутинские, тамбовские, солнцевские, бакинские. И среди бакинских совсем не все оказываются этническими азербайджанцами. Среди авторитетов местных преступных сообществ очень много грузинских фамилий, разве они импортировали в Россию грузинскую преступность? А сколько, извините, русских ментов с ними сотрудничает?
— То есть получается, что межэтнической напряженности вообще нет? А события на Манежке — это что было?
— Я не считаю, что это этническое противостояние. Это социальный протест, выраженный в этнических терминах. В основе протеста вовсе не этническая ненависть, а невозможность терпеть правовой беспредел. Просто люди осмысляют эту ситуацию в этнических категориях. Кто будет спорить, что Егора Свиридова жалко или что тот следователь, который выпустил убийцу из-под стражи, заслуживает наказания? Но почему-то Путин поехал на кладбище с фанатами, а не занялся вопросом о продажных ментах. Все знают, что бандиты с Кавказа могут купить любое ментовское отделение с потрохами. Так разве не здесь корень проблемы? Но говорят почему-то о культуре и об этносе. Обычный человек не задумывается глубоко, он видит то, что на поверхности: есть хорошие русские парни и плохие нерусские парни. Это перекодирование социальных проблем в этнические, которое способствует фашизации общества. То же самое происходило с лондонскими беспорядками: медиа преподносили их как расовые, хотя среди бунтовщиков было полно белых. В том числе девушек из среднего класса, которые забегали в магазинчики стащить какой-нибудь айпэд последней версии. А источник проблемы в том, что есть большая часть населения, прежде всего молодого, которая чувствует себя исключенными из общества. И примерно раз в
— В чем специфика проявления этничности в большом городе? Дагестанец в Москве и в Махачкале — это ведь не одно и тоже?
— Конечно, нет. Социологи это еще называют «символической этничностью»: альбом с фотографиями, который раз в полгода достается с полки по поводу приезда гостей, особые блюда по праздникам, возможно, детали дресс-кода. Да и это необязательно: скажем, итальянцы в Америке внешне ничем не отличаются от остальных, что не мешает им чувствовать себя итальянцами. А вот в Германии, я заметил, турок легко отличить от обычных немецких обывателей: у них брюки всегда слегка приспущены, как шаровары. Ну и ездят они обязательно на подержанных «мерседесах».
В Москве сегодня — так же как в Лондоне или в Нью-Йорке — происходит маркетизация этничности. Например, появилась такая вещь, как халяльные рестораны. Совсем не во всех этих ресторанах мясо действительно халяльное, нет алкоголя и нельзя курить. Если присмотреться, окажется, что и покурить можно, и выпить найдется, и мясо непонятно какое. Но сам факт, что они себя позиционируют как халяльные, означает, что на рынке есть сегмент потребителей такого рода ресторанов.
— Означает ли это, что в Москве скоро могут появиться этнические кварталы?
— Эти кварталы возникают не потому, что мигранты хотят их создать, а потому, что в городе в некоторых кварталах жилье более ветхое и потому дешевое. Под Парижем есть такой городок Рубо: в первые десятилетия после войны там не было электричества, канализации, жилье вообще ничего не стоило, и там стали селиться рабочие — местные плюс мигранты из Португалии, Испании, Италии и Алжира. Со временем доля мигрантов увеличивалась, поскольку местные туда не шли. А бизнесу было удобно таким образом эксплуатировать дешевую рабочую силу — не то что мигранты специально селились вместе, чтобы сохранить свою культурную идентичность. Они ехали в другую страну вовсе не для этого, а чтобы улучшить свои жизненные шансы.
В России сейчас появилась новая страшилка о появлении Чайна-таунов: то под Питером будут строить, то в Москве обещают. Я был во многих Чайна-таунах — и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке. И это замечательные места! В Нью-Йорке это четыре квадратных километра, где от тебя хотят только одного: чтобы ты поел в ресторане, сделал массаж и подстригся. Тебе предлагают сервис и говорят «See you tomorrow!» Все, больше ничего не хотят.
Но в реальности появление в Москве этнических кварталов маловероятно, потому что у нас другая структура жилищного фонда. В отличие от западных городов у нас пресловутые престижные дома строятся в непрестижных кварталах, поэтому возникает мешанина социальных страт. Так что этническая сегрегация Москве не грозит.

Ольга Вендина
«Национальность теперь как марка обуви»
— По переписи 2010 года доля русских в Москве превышает 90%. Что это значит?
— Это значит, что эти люди прежде всего считают себя россиянами, а национальность, этническую самоидентификацию выбирают как марку обуви. Люди много лет живут в России, их дети учатся в российских школах, поэтому они, не переставая идентифицировать себя со своей этнической группой, и начинают ассоциировать себя с большинством. Легче всего переключают свою идентичность белорусы и украинцы, но это характерно для всех народов.
Интересно, что с момента переписи 2002 года это происходит все чаще. Видимо, нагнетание межэтнических страхов сыграло свою роль.
— То есть перепись не дает адекватных данных о населении? А есть ли способы понять, кто живет хотя бы в Москве?
— Все хотят получить этническую карту Москвы, но, к сожалению, никаких достоверных данных для нее нет. В данных переписи много фальсификаций, а на уровне обыденного сознания численность этнических групп немыслимо преувеличивается. Социолог Михаил Алексеев провел исследование, которое показало, что численность этнических групп, вызывающих наибольшие страхи, преувеличивается примерно в
— Как менялся национальный состав мигрантов в последние годы?
— Вплоть до конца
После Спитакского землетрясения и начала карабахского конфликта в Москве появились армянские беженцы. В миграционной волне
— Как меняется городское пространство в связи с увеличением потока мигрантов?
— Раньше московское пространство было, образно выражаясь, глыбистое — были крупные районы, которые можно было назвать рабочими, интеллигентскими, цековскими. А сейчас оно стало более дробным — категории престижности и непрестижности в Москве вообще постепенно размываются. Элитные дома стали появляться в непрестижных раньше районах, а где-нибудь недалеко от проспекта Мира можно встретить самое неожиданное соседство: там есть пара домов, которые раньше были общежитиями, сейчас их выкупили, и там живут китайцы, а рядом — дома УПДК, где живут дипломаты. Эта фрагментация пространства особенно видна около крупных рынков, где действительно очень пестрый этнический состав населения.
Расселение этнических групп в советской Москве было более компактным. Интеллигенция жила на Юго-Западе, она по определению была многонациональной. Рабочие районы были более русскими. Татары тоже в основном жили в рабочих районах. Сегодня география усложнилась. Все зависит от того, как люди относятся к статусу. Например, для самоопределения грузин и армян статус очень важная вещь, они селятся в престижных местах. А азербайджанцы не придают этому особого значения.
Но так называемых этнических районов в Москве нет. Нет ни одного района, где какая-либо иноэтничная (нерусская) группа составляла хотя бы 25% населения. В целом в Москве доля этнических групп не превышает 20% — хотя у нас и принято говорить, что «их» много. Наше восприятие таково в результате высокой скорости происходящих процессов, а не высокой численности этнических групп. Изменения происходят быстро и касаются тех сфер деятельности, с которыми мы постоянно сталкиваемся: торговля, коммунальное хозяйство, строительство, поэтому у нас возникает ощущение, что мигранты все заполонили.
— А существует у этнических сообществ в Москве какая-то специализация на рынке труда?
— Конечно, есть трудовые ниши. В строительстве много узбеков и таджиков, дворники — киргизы, в автосервисах — много армян и азербайджанцев.
— А с этнической преступностью что?
— Социолог Михаил Денисенко анализировал вклад этнической преступности в общую картину совершаемых преступлений: оказалось, что доля преступных групп в этническом сообществе в 10 раз меньше, чем в принимающем обществе. Этнические мигранты более законопослушны, чем местные жители. Конечно, в Москве есть этническая преступность, и смешно это отрицать, но не она делает жизнь Москвы криминальной. Среди русских москвичей довольно велика доля тяжких преступлений, а среди нерусских москвичей — мошенничества, хулиганства и грабежа. К тому же мигрантов выталкивает в теневую сферу экономики неопределенность их статуса. И то, что в Москве большинство преступлений совершают приезжие, не означает, что это этнические мигранты, часто это приезжие из Московской области, из регионов.
— Проблема с «понаехавшими» в той или иной степени есть в любом большом городе, но, кажется, именно в Москве общество совсем не готово даже начать о ней разговаривать.
— Cостав населения такой имперской столицы, как Москва, должен быть космополитичным по определению. То, что долгие годы миграции сдерживались и имели в основном характер организованного завоза рабочей силы, конечно, повлияло на этнический состав населения города — он оказался законсервированным. Сейчас барьеры исчезли, но к закрытости мы уже привыкли, поэтому рост этнического разнообразия воспринимаем так негативно.
Есть еще другая причина — социальная. Жители большого города тяготеют к сегрегации. Мы хотим, чтобы наши дети учились в определенной школе, чтобы мы жили в достаточно однородной социальной среде, мы всего боимся, потому что огромный город очень агрессивен, и хотим от всего отгородиться. И мы ожидаем, что наш сосед будет вести себя так же, как мы. Это дает ощущение контроля над ситуацией. Но если мы не уверены в соседе, то это ощущение теряется, и поскольку сами мы этот контроль обеспечить не можем, то требуем этого от власти. Ужесточить любыми способами, даже если это противоречит нашим экономическим интересам.
К слову сказать, современное положение России напоминает то, в котором в свое время оказалась Австро-Венгрия, тоже материковая империя, не имеющая заморских колоний. Если вы сегодня пройдетесь по Вене в выходной день, вы не увидите венцев — вы увидите всю бывшую империю: сербов, словенцев. Если вы пройдете по Москве в выходной день, вы тоже увидите всю Среднюю Азию, весь Кавказ. У этих людей нет своей дачи, они проводят время в парках. Это очень интересный феномен. Мы, коренные жители, не удовлетворены социальной инфраструктурой: для нас школы плохие, парки неухоженные, учителя негодные, врачи и больницы низкого уровня — и мы стремимся переориентироваться на какие-то специальные школы, больницы. А вот мигранты в высшей степени удовлетворены социальной инфраструктурой: для них счастье оказаться в этой школе, в этой больнице, провести время в этом замечательном парке. Они активно используют публичные пространства, которые играют роль важнейшего механизма интеграции.