Занимательное страноведение
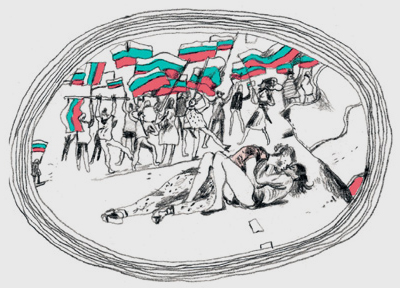
Лев Рубинштейн: Прошлую нашу сессию мы завершили хлопком одной ладони. А до того анонсировали продолжение темы про, условно говоря, патриотизм. Так вот. Я глубоко уверен, что «любовь к Родине», как и всякая прочая любовь, есть дело сугубо интимное. Поэтому цивилизованный человек не рассуждает на людях о том, что или кого он любит или не любит, — это его частное дело. А другие — занимаются «любовью к Родине», причем прилюдно. Потому что болезненная склонность к эксгибиоционизму входит в обязательный набор державно-патриотических умонастроений.
В одних странах гордятся поэтами и музыкантами. В других — вкусной кухней и вином. В третьих — гражданскими свободами. Ну а в некоторых — огромной территорией, умением наводить страх на соседей и скоплением газов.
Григорий Чхартишвили: Все, конечно, именно так и есть. Но с «патриотизмом» я бы все-таки еще поразбирался. Не такая это простая вещь применительно к нашей стране. Причем начал бы я не с комплекса чувств, а с коренного понятия — patria. Помимо интимно-предметного образа, который возникает у меня перед глазами при слове «родина» (переулок близ Девичьего поля, лето, пух, «вышел месяц из тумана»), есть еще и вполне взрослый набор исторических событий, имен, понятий, с которыми мне хочется себя ассоциировать. Тебе ведь, наверное, тоже?

Л.Р.: Разумеется. Но у меня то, о чем ты говоришь, связано скорее не с географией и не с историей. Хотя и с ними тоже, если иметь в виду мои фантазирования — что и как было на том месте, допустим, Москвы, где я сейчас нахожусь, кто жил в этом дворе в середине XIX века, кто во что был одет и кто кому что говорил. И какая бабушка высовывалась из этого окна? И какого внука звала обедать? Видимо, это и есть чувство истории. Точнее — тоска по истории.
Но все же главным, так сказать, институтом моего эмоционального и интеллектуального подключения к patria является, конечно же, язык. Иногда, особенно «во дни тягостных раздумий» (а таких дней становится все больше и больше), мне кажется, что только он и есть.
Г.Ч.: Про язык мы, надеюсь, тоже поговорим. Но сначала все-таки про события-имена-понятия. Среди них есть такие, которые для меня и являются настоящей Россией — моей Россией. Однако у некоего условно-собирательного Путина тоже ведь есть его Россия, и между двумя этими странами очень мало общего. Ну, может, Пушкин нас объединяет, и то для них он — автор «Клеветников» да строк «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю». Вот и получается, что родин две и Россий тоже две. Одну я люблю, от другой меня с души воротит.
Первая — страна литературы, культуры, духовного поиска, сопротивления произволу; вторая — страна государственного насилия, унижения, стукачества. У обеих Россий свои герои, имена их очевидны, так что не буду перечислять. Трудность в том, что я не могу сказать: моя Россия и есть настоящая, а их Россия — фальшь и морок. Обе эти национальные традиции исторически укоренены. Та, которая идет от ФСБ к КГБ, НКВД, охранке, Третьему отделению, Тайной экспедиции и Малюте Скуратову, даже древнее. Наша-то зародилась лет двести назад, этак примерно с Радищева. Понимаешь, и мы, и они здесь — у себя дома, равноправно сосуществуем на одном географическом пространстве. Попытки консенсуса и объединения были, но провалились, потому что здесь неразрешимость противоречий, несовместимость базовых ценностей. Кстати говоря, и помянутый тобою язык тоже не вполне один. Обычно с первой же фразы, сказанной незнакомым человеком, срабатывает система распознавания «свой-чужой».

Л.Р.: Язык, конечно же, не один. Их даже не два. Их много. И то самое «распознавание», о котором ты вполне справедливо говоришь, осуществляется уже на уровне интонаций или акцентаций. В моем детстве мгновенным сигналом служили даже такие вещи, как «портфeль» или «пoртфель». Да и много всего такого в языке. Точнее, в языках. Поэтому уместно говорить о совсем разных языках внутри одного национального, описанного академической грамматикой языка. Самое, пожалуй, драматическое заключается в том, что значения одних и тех же слов у «нас» и у «них» совершенно различны, а иногда и противоположны.
Я пишу это на второй день после того, как в Москве застрелили печально известного полковника Буданова. Как легко догадаться, по этому поводу тут же началась вакханалия в интернете. И как легко догадаться, для одних этот персонаж был «подонком и убийцей», а для других «героем России». «Героем» он является, как ты понимаешь, для того самого слоя населения, для которого, например, Ходорковский — это «вор, обобравший детей и стариков», который «должен сидеть в тюрьме».
Я, кстати, и к словам «герой» или «героизм» отношусь примерно с таким же подозрением, как и к слову «патриотизм». Очень уж они пропахли потом, кровью и кромешной архаикой.
Поэтому, чуть возвращаясь к началу нашего разговора, вспомню старый анекдот про цыгана, который чесал бороду и размышлял, глядя на своих многочисленных детей, копошащихся в придорожной пыли: «Этих, что ли, отмыть или уж лучше новых сделать?»
Г.Ч.: Вот и я о том же все время думаю. Один наш общий знакомый давно носится с идеей, которая кажется ему спасительной. Он предлагает прекратить вековую гражданскую войну «интеллигентов» с «арестократами» (это сила, которая привыкла все проблемы решать при помощи ареста), по-мирному разбежаться на две страны, на две отдельные России. Поделить жилплощадь, как при цивилизованном разводе. Утопист говорит, что, как при всяком разводе, будет много хлопот и расходов, но в конечном итоге всем станет только лучше. Он даже готов великодушно отдать области с природными ресурсами путиным-сечиным, потому что они, бедняги, все равно ничего не умеют, кроме как соки из земли сосать, и без нефти с газом просто помрут с голоду. Мы же возьмем себе губернии скромные, дотационные и быстро превратим их в лучшее место на земле. Пускай «арестократы» в своем государстве ставят памятники Сталину, Дзержинскому, Буданову — хоть Ивану Грозному; пускай всласть пилят и откатывают; пускай уездятся с мигалками; пускай крышуют и быкуют. У них будет своя Россия, у нас — своя. Как тебе такая идейка?
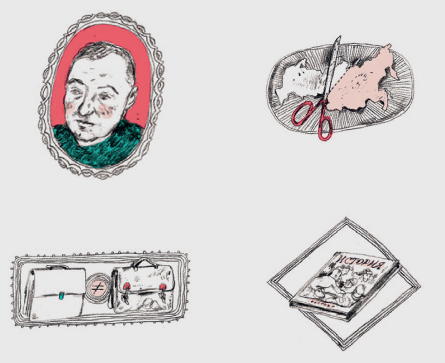
Л.Р.: Идейка-то — ничего себе. Вполне симпатичная. Как, впрочем, и многие другие утопии.
Примеры таких «разводов», разводов не по этническому, а по цивилизационному принципу, в ХХ веке известны. Две Германии, две Кореи, два Вьетнама. Но, во-первых, как ты помнишь, они были не совсем, мягко говоря, мирными. А во-вторых, осуществлялись они с участием внешних сил. Оно нам надо?
Я помню (и ты тоже) множество разных мечтательных разговоров из области альтернативной истории. «Что было бы, если бы в восемнадцатом году…», «Что было бы, если бы Колчак…», «Что было бы, если бы Антанта в Одессе…». Ну и так далее. Но история всегда такая, какая она есть.
Нет, Гриша, ничего такого здесь быть не может. Здесь даже не может быть нормальной люстрации, каковая была осуществлена в некоторых постсоветских или постсоциалистических странах. Потому что здесь люстрацией занялись бы именно те, кого бы как раз люстрировать и следовало бы. И это опять проблема языка. Слова, термины и категории, значения которых не укоренены в общественном сознании, а служат лишь знаками обмена, легко подвергаются смысловой перекодировке и легко присваиваются кем угодно для каких угодно нужд. Если обстоятельства предпишут «им» стать либералами, демократами и гуманистами, они с легкостью ими станут безо всякого ущерба для их внутренней структуры. А «нас» немедленно объявят фашистами, коммунистами, ретроградами, шовинистами и кем угодно.
Мы дорожим значениями слов, которые мы употребляем. А «они» — нет. И в этом, как это ни печально, их сила и их интеллектуальная неуязвимость. Сами-то они верят только в другую силу.
Г.Ч.: Я отлично понимаю, что идея с разводом утопична. Что в одной России живут «нечистые», в другой России — «чистые» (и там, вероятно, с утра до вечера «прекрасные московские евреи о Мандельштаме говорят»). Наш общий знакомый, адепт теории развода, — театральный режиссер, ему положено увлекаться грезами. Я же разводиться ни с какой Россией пока что не хочу. Но я приземленный прозаик, инженер масскульта. Отрываться от масс и прозы мне не к лицу. И все это бла-бла про «правильный патриотизм» и две России я затеял не для сотрясания воздухов, а чтобы попытаться сформулировать некое общее целеполагание, которого всем нам (в смысле нам), по-моему, катастрофически не хватает. У них оно есть, хоть и шкурное. У нас — одни ламентации о нечувствовании под собою страны.
Однако, боюсь, свой объем мы уже исчерпали и настало время прервать дозволенные речи. Скажем тем, кто нас читает: «Оставайтесь с нами»? В смысле, с нами.
Л.Р.: Ага, так и скажем. До встречи, друг!


