О чем молчат наркоманы
Поэт и один из немногих московских аутричеров Александр Дельфинов — о том, что и у наркоманов тоже есть права
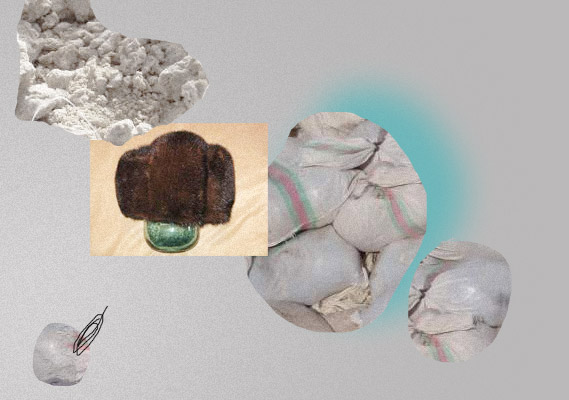
В декабре 2011 года мне довелось поучаствовать в правозащитном тренинге по работе с наркозависимыми людьми в Твери. Среди участников был 25-летний Паша Н. из города К. В Москву его буквально вывезли из родного города, где он проходил свидетелем обвинения по одному делу, резонансному и банальному одновременно. В городе К. еще с середины девяностых активно промышляет организация воинствующих трезвенников, в последние годы действующая совместно с полицией. Эти люди ведут маленькую победоносную войну с наркотиками в отдельно взятом регионе, не брезгуя пытками, подставами и провокациями.
Вышло так, что Паша под силовым давлением этих парамилитарных трезвенников сдал правильным пацанам из полиции своего друга детства, тоже наркомана. Однако на суде он отказался от показаний, данных под прессом, — по тамошним раскладам поступок-подвиг. Это вызвало пацанский гнев. У дверей Пашиной квартиры принялись дежурить крепкие ребятки, как бы намекающие на бренность всего земного вообще и хрупкость человеческого здоровья в частности. Друзья спрятали Пашу на даче, чтобы воинствующие трезвенники не могли «поговорить» с ним, как привыкли делать у себя в офисе. После очередного выступления в суде и очной ставки с растерянными ментами, не присутствовавшими при задержании Пашиного друга, но фигурировавшими в протоколе, дело окончательно приобрело абсурдно-инфернальный характер. Что, впрочем, отнюдь не гарантировало оправдательного приговора. И вот тогда Пашу, продолжавшего торчать и бывшего легкой мишенью резвых трезвачей, посадили в поезд, отправили в Москву и определили в единственную приличную наркологическую клинику. После двадцати восьми дней мучительного детокса и месяца психологической реабилитации он оказался на нашем тренинге.
В далеком и полном надежд 1988 году вышло в свет эссе «Могут ли угнетенные говорить?» профессора гуманитарных наук Колумбийского университета Нью-Йорка Гаятри Чакраворти Спивак. Этому тексту суждено было стать культовым текстом постколониального дискурса «исследования угнетенных» — по сути, он вводил универсальную метафору субкультурной самоизоляции любого меньшинства в современном обществе. Спивак — представительница интеллектуально-феминистского крыла, в своем эссе она изящно полемизирует с такими постмодерн-мудрецами, как Антонио Грамши, Жиль Делез или Мишель Фуко, учившими, среди прочего, о необходимости прямой борьбы угнетенных масс за свои права — без помощи профсоюзов или иных посредников. Спивак, по сути, реанимирует и реабилитирует старую формулу Карла Маркса о том, что угнетенные не могут представлять себя сами, а потому кто-то должен взять на себя функцию представительства.
Она рассказывает простую и жуткую историю индийской девушки Бхуванешвари Бхадури, участницы национально-освободительной боевой группы, решившую покончить с собой от безысходности после отказа от роли политического киллера: девушка оказалась в ситуации, когда единственным способом политического и личного высказывания для нее осталось самоубийство. В результате Спивак приходит к парадоксальному выводу: «угнетенные не могут говорить сами за себя». Оставшись одни в критических обстоятельствах, они словно лишаются способности повествовать о своих бедах — для этого у них нет ни языка, ни необходимого отстранения. Хотя Гаятри Чакраворти Спивак рассуждает о положении угнетенных женщин в русле своих гендерных исследований, ее тезис оказывается приложим и к другим «другим». Например, к наркоманам.
Более того, само словосочетание «травматичный опыт» было абсолютно чуждым его сознанию, вполне живому и бодрствующему, но — лишенному возможности высказаться
Что такое хороший тренинг? Это полный интерактив. Не лекция, когда один говорит, а все слушают. Здесь люди общаются, иногда происходит прорыв эмоций, иногда рождаются гениальные идеи. Чаще — не очень. Идеальный тренинг дает полезный опыт коллективных действий, и в любом случае на тренингах много говорят друг с другом, например во время кругового представления участников или во время подготовки презентаций по заданиям в группах. В нашем случае речь также шла о конкретных согласованных действиях по защите прав одной из самых угнетенных социальных групп — наркопотребителей, наркозависимых.
В Твери собрались адвокаты, журналисты, арт-активисты, соцработники и представители неформального сообщества людей, употребляющих наркотики, — те, кто, например, осмелился выступить с судебными исками против государственных органов о недоступности заместительной терапии или недоступности гарантированной законом бесплатной диагностики гепатита С. Чисто формально внутри нашей группы Паша относился именно к этой группе. С одним отличием: он не был ни правозащитником, ни социальным активистом, не совершал наркоманского coming out’а, не подавал никаких исков и, вообще, согласился поехать на тренинг в последний момент, после долгих уговоров.
Еще в Москве, перед тренингом, мы все вместе ходили на оппозиционную демонстрацию и митинг на Болотной площади. Паша оказался в компании непривычных для себя людей: во-первых, все открыто и довольно активно обсуждали вслух тему наркотиков; во-вторых, никто не «мутил» и не собирался этим заниматься; в-третьих, все проявляли интерес и уважение к Паше, но при этом ощущался некий недоосознанный разрыв — для человека, никогда в жизни не покидавшего не только города К., а и своего конкретного района, было мучительно ощущать свою заброшенность в «продвинутой» московской тусе.
Короче говоря, когда мы встретились в Твери, все повторилось в более наглядной форме: если приходила Пашина очередь сказать свое слово в круге обсуждения, он отнекивался: «Мне сказать нечего», «А что я могу сказать?», «Я лучше посижу и вас послушаю». Он пожимал плечами, при этом было заметно, что левое двигается чуть иначе — из-за постинъекционной травмы у Паши атрофировалась часть мышцы. Этот парень из российской глубинки был совершенно типичным представителем той части молодежи, которая больше всех пострадала от царящей в России наркофобии (и оборотной ей наркомании). Он не знал, как рассказать о своем травматичном опыте. Более того, само словосочетание «травматичный опыт» было абсолютно чуждым его сознанию, вполне живому и бодрствующему, но — лишенному возможности высказаться.
«Как ты считаешь, этот тренинг был для тебя полезен?» — спрашивали Пашу в последний день. «Не знаю, — отвечал он. — Да, наверное, полезен».
«Оправдались ли твои предположения, с которыми ты ехал на этот тренинг?» — спрашивали его. «Не знаю, — отвечал он. — Не было у меня никаких предположений. Ну, интересно было вас всех послушать».
«Будешь ли ты использовать полученные на тренинге знания для своей практической работы?» — задавался вопрос. «Не знаю, — отвечал Паша. — Домой хочу вернуться поскорей».
Паша молчал не потому, что ему нечего рассказывать или его жизнь бедна событиями. Но он впервые в жизни оказался вне привычной системы понятий, где на одной стороне — гонимые наркоманы со стигмой «животных» и «нелюдей», плюс их созависимые друзья да родственники, а на другой — агрессивно гудящее большинство, «нормальное общество», репрезентируемое, к примеру, кудрявыми ангелами антинаркотического насилия типа Евгения Ройзмана и сказочными сотрудниками карающих органов. «Не наказывать, а воспитывать» — так звучит европейская формула соцработы с проблемными индивидуумами, и ее сложно даже произнести вслух в стране, где в ходу псевдоюридические выражения типа «добровольно-принудительное лечение» и псевдомедицинские сентенции «наркомания — не болезнь, а просто распущенность».
Лечить неверно работающий мозг, приковывая наручниками к кровати, — вот современное российское ноу-хау. Избить наркомана кулаками и дубинкой, чтоб жопа почернела, — вот должное воспитание для молодого человека, пустившегося во все тяжкие. Недавно в беседе с одним в высшей степени либеральным, человеколюбивым и, естественно, оппозиционным политологом я услышал: «А что наркоманы? Это люди конченые! Я бы их расстреливал на месте».
Можете себе представить, какие методы решения проблемы предлагают нелиберальные ультраконсерваторы, строгие к грешникам? Знаменитый своими неудачными шутками в прямом эфире протоиерей Димитрий Смирнов в опубликованном 11 мая 2011 года интервью газете «Труд» предложил попросту сослать всех наркоманов на отдаленные острова. По мнению главы Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, у нас много неосвоенных, пустующих территорий, а наркоман — это «социально опасное животное» и требует изоляции.
О’кей, когда говорит отец Димитрий, не поймешь порой, может, он и вправду так шутит? Иначе откуда этот православный сталинизм? Ведь когда-то Большой террор 1930-х начинался с зачисток асоциального элемента в больших городах. Наркоманов в СССР тогда было множество: кокаин-марафет находился чуть ли не в свободной продаже, богема нюхала эфир, простолюдины с южных окраин жевали кукнар, анашу курили все подряд. История наркополитики в нашей стране пока не написана, но отдельные свидетельства эпохи прорываются то тут, то там. Я вспоминаю подшивку журналов «Огонек» за 1928-й или 1929 год, обнаруженную в бумагах покойного дедушки — историка по профессии, коммуниста по убеждениям. В одном из номеров имелся разгромный фельетон, посвященный острой проблеме: оказывается, в московских казино не только нэпманы ведут жаркую игру на деньги, там девушки танцуют почти голые и кокаин повсюду, и даже некоторые партийные работники позволяют себе захаживать в эти вертепы разврата. Интересный эпизод имеется в почти позабытом пропагандистском худфильме 1936 года режиссера Евгения Червякова «Заключенные», где рассказывается о перевоспитании антисоветских попутчиков на строительстве Беломорканала. В отрывке, вывешенном на YouTube, девушка-зэчка поет под гитару песню с характерными словами: «Кокаина серебряной пылью все дороги мои замело». На практике все было еще более кинематографично.
И история со ссылкой наркоманов на «отдаленные острова» у нас в стране тоже уже была — ее, чудом задокументированную официально, раскопал в середине 2000-х в наших архивах французский советолог Николай Верт. В 1933 году почти 7 000 так называемых спецпоселенцев, то есть ссыльных, большинство из которых были бомжами, наркоманами, проститутками и прочими нежелательными в больших советских городах гражданами, оказались на необитаемом острове Назино посреди реки Обь. Это было в мае, но температура по ночам опускалась ниже нуля. На острове отсутствовали постройки, горячее питание, вообще минимально приемлемые условия содержания заключенных. Начался каннибализм. В письме Сталину инструктор Нарымского окружкома ВКП(б) Величко сообщал: «Люди начали умирать. Они заживо сгорали у костров во время сна, умирали от истощения и холода, от ожогов и сырости. В первые сутки бригада могильщиков смогла закопать 295 трупов... Вскоре началось в угрожающих размерах людоедство. В результате из 6 100 человек, прибывших из Томска, и плюс к ним 500–700 человек, переброшенных из других комендатур, к 20 августа осталось в живых 2 200 человек».
Этот чудовищный остров смерти — лишь эпизод из волны репрессий против так называемых «деклассированных элементов и нарушителей паспортного режима», стоивших нашей стране миллионов человеческих жизней. Кто печалится нынче о них? Кто помнит? Неужели лишь специалисты-историки? Мы знаем об этом преступлении, потому что его списали на «вредительские действия» наркома Ягоды, которого и самого расстреляли. Было расследование событий на «острове каннибалов», и документы следствия уцелели до наших дней. Можно, конечно, сказать, что это лишь исключение из правил и что достопочтенный военный капеллан отец Димитрий вовсе не имел в виду подобного кошмара. Да, наверное, не имел. Да, исключения. Но, увы, в символическом плане история назинских людоедов лишь подтверждает правило. В случае с Бхуванешвари Бхадури мы узнаем о печальном положении вещей только после добровольной смерти девушки. О бесчеловечных методах советских соцчисток повествуют скупые слова полицейских протоколов.
«Не наказывать, а воспитывать» — так звучит европейская формула соцработы с проблемными индивидуумами, и ее сложно даже произнести вслух в стране, где в ходу псевдоюридические выражения типа «добровольно-принудительное лечение» и псевдомедицинские сентенции «наркомания — не болезнь, а просто распущенность
Угнетенные молчат. Если попадает в их среду случайный умник, способный осмыслить положение вещей и не озвереть при этом, то получаются «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Но и для него вся оставшаяся послелагерная жизнь стала мучительным поиском нелживого способа изложить пережитое. Шаламов, как известно, умер в дурке. Отечество наше не терпело критикующих пророков и не собирается их терпеть, наоборот, у нас опять идет пропагандистская война с новыми «очернителями действительности», а на майские праздники собираются пускать по улицам страны «сталинобусы». Здесь странным образом смыкаются интересы нынешних властей и ригористичного руководства РПЦ, мечтающих о возврате «добровольно-принудительных исповедей», как это уже было в царской империи в XIX веке, и заявляющего о воинствовании церкви против ложных гуманистических ценностей. Милость к павшим, к которой столь безответно призывал великий поэт, так и осталась для нас подозрительной экзотикой. Зато такие приятные явления ноосферы, как смертная казнь, телесные наказания, долгое лишение свободы за пустяковые правонарушения, — вот это у нас процветает.
А Паша Н. из города К. по-прежнему молчит, вернулся на родной район и где-то там тихонечко торчит. Его другу влепили четыре года по сомнительному делу, в котором все доводы обвинения выглядят грубо сфальсифицированными, но судья самого справедливого в мире суда, по сложившейся традиции, не стал принимать во внимание никакие тезисы защиты. Наркоман — преступник по определению, наказания достоин по умолчанию, и, даже если в данном конкретном случае главное доказательство вины было попросту подброшено бравыми полицейскими, все ведь понимают: в другой-то раз этот самый наркоман и вправду купил бы пару граммов нездоровой дряни, продаваемой на российских просторах под названием «героин». Паша Н. вернулся в свой город и попросту живет, как умеет, как привык, как сложилось. Он не знает, как можно эту тему переделать. Не верит, что московские тусовщики, не носящие меховых кепок и гуляющие по болотным митингам, в силах что-то изменить. Да и что менять? Все так живут. И как говорить об этом? «Нормально живем. Все путем у нас. Пацаны на районе, девчата. Все так живут».


