Давайте предъявлять друг другу документы
О байронизме, желании не бояться, отношении к Окуджаве и потакании друг другу в тринадцатой серии переписки Акунина и Рубинштейна
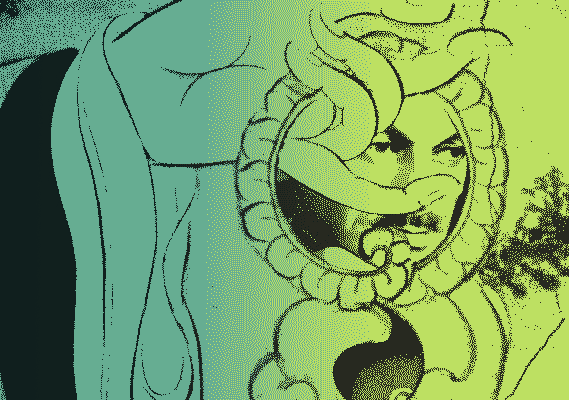
Лев Рубинштейн: Привет, дорогой.
Казалось бы, мы нашу переписку совсем недавно начали, а вот уже и тринадцатая порция. Хорошее, кстати, число. Но это ладно. Я о другом.
Теперь, как я начинаю все больше замечать, в некоторую моду входит такое какое-то томное разочарование. Байронизм даже некоторый. Вот, типа, мы снова все просрали. Вот мы чем-то там не воспользовались в полной мере. Что-то важное упустили. Где-то чего струсили или как минимум смалодушничали. Ну, в общем, понятно.
Я тебя хочу спросить, насколько разочарован ты. А опережая встречный вопрос, сразу же хочу сказать, что я — нет, ничуть не разочарован. Раздражен — да. Обеспокоен — да. Да и как не испытывать подобных чувств, когда наступление, что называется, реакции заметно невооруженным глазом. И как не испытывать, прямо скажем, ярости, когда прямо на твоих глазах творятся хамские, циничные, наглые и запредельные в своей тупом мракобесии дела. Да и как им не быть: любое действие всегда порождает противодействие. А противодействуют они исключительно так, как умеют. Ну, в общем, маятник. А тут еще и погода…
Но разочарования все равно нет. Апатии — тоже. Я продолжаю считать, что энтузиазм прошедшей зимы вполне самоценен и не может остаться без значительных последствий.
Сейчас многие говорят, что ленточками-улыбочками-шуточками-прибауточками и прочим «креативом» мы никого не напугаем. А я вот, например, вовсе и не хочу никого пугать. Я вовсе не хочу, чтобы нас боялись. Я хочу, чтобы мы сами не боялись, — это намного важнее.
И я по-прежнему считаю, что мы сможем рано или поздно переломить ситуацию лишь новой, живой, человеческой интонацией протеста и сопротивления. А если не этим, то больше и нечем.
Как думаешь?
Григорий Чхартишвили: Разочарован? Чем? Тем, что кое-кто теперь точно не будет пожизненным диктатором, хотя до декабря это казалось неизбежным? Что раньше всем было на все наплевать, а теперь не наплевать? Что люди вроде нас с тобой перестали считать себя в собственной стране тучкой на груди утеса-великана?
Это была волшебная зима, прямо зимняя сказка. И ее подарки с приходом весны не растают.
Все идет, по-моему, отлично. Верхи все хуже могут, низы все сильнее хотят. Только не нужно пытаться сразу впрыгнуть на десятый этаж. И глупостей делать не нужно. Предоставим эту привилегию начальству.
Да, праздник непослушания закончился. Начинается нормальная жизнь. Я тоже из числа тех, кому ленточек и улыбочек теперь недостаточно. Предстоит долгое и натужное перетягивание каната. Понадобятся упорство, выдержка и прочие скучные качества. Помимо «живой интонации», разумеется. И улыбочек. Без этого вообще все не имеет смысла.
Знаешь, я как-то уже решил, что нормальная жизнь у меня теперь будет вот такая. Придется научиться совмещать то, что должно, с тем, что нравится. Я придумал, как изменить график поездок, как перестроить работу. И после почти трехмесячного оцепенения снова стал писать. Меньше, конечно, чем раньше. Но зато несколько иначе. Уже спасибо.
Про то, что мы «струсили», «смалодушничали», «недожали», «не взяли штурмом Кремль» и прочее — это кричат дурачки, которым только бы запузырить что-нибудь шумное, а потом как бог пошлет. У нас с тобой возраст такой, что малодушничать и сваливать на кого-то ответственность поздно. Другой возможности сделать что-то действительно важное (или не допустить чего-то страшного) у нашего поколения уже не будет. Я как-то очень остро это чувствую. «А как третья война — лишь моя вина, а моя вина — она всем видна». Вот ты, как принято у вас, бывших поэтов-подпольщиков, поди, не любишь Окуджаву. А я чем дальше, тем больше. Признавайся, не любишь?
Л.Р.: Не признаюсь. Потому что ты сейчас упомянул «поэтов-подпольщиков» не моего поколения и возраста, а тех, кто чуть-чуть моложе. Для многих из них, например для нашего общего друга С.Г., Окуджава действительно представлялся — и таковым представляется до сих пор — как одна из двусмысленных и компромиссных фигур позднего советского времени. Это было время, когда он был уже вполне «легален», когда в половине фильмов звучали его песенки, когда культивировался сладковатый и уводящий в сторону миф Арбата. И эта фигура, конечно же, раздражала многих моих друзей и коллег, воспринимавших его (не без некоторой справедливости) как символ дозированной и контролируемой вольности. И я их понимаю.
Но чувств этих не разделяю, потому что моя история взаимоотношений с этим, так сказать, культурным феноменом была совсем иной. Окуджава попал в круг моего внимания в начале 1960-х через старшего брата и его друзей, через магнитофон «Дзинтарис», откуда впервые зазвучал для меня этот голос и эти интонации, которые буквально оглушили меня своей сугубой приватностью. Этого не было тогда. К тому же волей технологических обстоятельств Окуджава стал первопроходцем совсем нового явления — звукового самиздата. «Магнитиздата», можно сказать. Это ведь уже потом стало общим местом. Отношение мое менялось, конечно, и всячески корректировалось. Но камня я точно в него не брошу. Он сыграл, безусловно, важную роль в моем, если угодно, эмоциональном воспитании и становлении.
А что ты вдруг?
Г.Ч.: Да ехал тут в машине, долго. Завел диск Окуджавы — наткнулся в бардачке. И чего-то вдруг сильно его понял и с новой силой полюбил (не бардачок, Окуджаву). Быть приватным в коллективистские времена и человечным в бесчеловечные — более сильный метод борьбы с тоталитаризмом, чем любое политическое диссидентство. Я не диссидентов принижаю, да? Они были герои и молодцы. Я про то, что все самое важное — в общественном смысле — происходит не на возвышенном уровне подвига, а на уровне земли, где «из окон корочкой несет поджаристой» и «за занавесками мельканье рук». Советской власти нужно было не Марченко или Буковского бояться, а Окуджаву и мирных каэспешников. Потому что всякий тоталитаризм строится на растаптывании частной жизни и выкорчевывании чувства собственного достоинства (Сталин очень хорошо это понимал). Герои необходимы, без них нечем оправдываться за стыдные годы, но главное происходит на кухне и в дружеском застолье. Когда там все поют «Холодок бежит за ворот» и неизвестно, кто стукач, — это одна петрушка. Когда поют «Не покупается доброе имя, талант и любовь» — совсем другая.
Недавно на литературной ярмарке один писатель рассказывал, каким пожизненным шоком для него стало известие о том, что его дед, большой сталинский начальник, в свое время подписывал расстрельные приговоры и как тяжко ему, писателю, с этим ужасным знанием жить дальше.
А у нас вся страна такая: половина — потомки тех, кто сидел, и половина — потомки тех, кто сажал. Что нам теперь, повеситься всем из-за этого? Окуджава говорит — не надо вешаться. «Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова». Кто-то ведь должен был это сказать после многих лет: «И как один умрем в борьбе за это».
А как считаешь ты: надо ли жить, во всем друг другу потакая? Непраздный вопрос, учитывая остроту общественной конфронтации.
Л.Р.: Во всем? Не уверен. Но дело даже не в этом. Все, что ты цитируешь, очень мило и, безусловно, искренне. Но есть такая вещь, как исторический или, говоря у́же, социокультурный контекст того или иного высказывания или жеста. В том числе и художественного. Поэтому я хорошо понимаю и тебя, который вдруг взял да вынул зачем-то из бардачка полузабытый диск. Но я понимаю и тех, кто, реагируя на пошловатое, мягко говоря, использование упомянутых высказываний или жестов, придумывает такие парафразы, как «давайте предъявлять друг другу документы».
И я понимаю всех тех (и сам отношусь к ним), которые могут произносить: «Возьмемся за руки, друзья» лишь в исключительно пародийной функции, а больше ни в какой. Дело, разумеется, не в Окуджаве. Он, повторяю, был для своего времени совершенно адекватен и вполне чист как в творческом, так и в нравственном смысле. И уникальная, узнаваемая, домашняя интонация — опять же повторяю — дорогого стоит.
Но его время — это его время. Не исключаю, что его время снова возвращается. Уж если ты вдруг заговорил о нем, то это ведь что-то же значит…
Г.Ч.: Нет, то время не вернется. И не надо. Ничего особенно хорошего там не было, если робкое оттаивание частной жизни воспринималось как революционный прорыв. А вот Окуджава, как мне кажется, еще вернется. Восприниматься и пониматься новым поколением будет по-другому, потому что изменилась фактура жизни. Есть в его песнях какое-то качество, позволяющее слышать и прочитывать их в другом контексте. Как Набоков переосмыслил песню «Надежда» — и даже дважды: то у него получилось
Л.H.: Удивительно, как наши разговоры всякий раз выруливают на неожиданные для нас обоих темы. И это, по-моему, очень даже хорошо. Разговор по «сценарию» никогда не бывает живым и плодотворным. Так и теперь. Откуда, казалось бы, вдруг взялся Окуджава, если я заговорил о нынешнем общественном климате? Но ведь взялся же почему-то…
Но интересно, что общую и, по-моему, важную нить мы все равно не потеряли, потому что сквозным словом оказалось слово «интонация».
Вот я и позволю себе закончить тем, что именно она, интонация, если она жива и достоверна, способна придать любому слову, высказыванию, жесту да и целому общественному движению убедительность и даже, не побоюсь этого слова, победительность.
На этой более или менее оптимистической ноте позволь на этот раз и прерваться.
До встречи.


