Борис Золотухин

фотография: Павел Самохвалов
До одиннадцати лет — обычное детство, московская школа, ничего примечательного не было. Потом — Дальний Восток, где работал мой отец. Сразу за нашими домами начинались лагеря для заключенных. Дальлаг, наверное, это называлось тогда. Я ходил в школу зимой, это было довольно далеко. Навстречу мне попадались колонны заключенных — зима была суровой, и заключенные, которых вели на работу, выглядели чудовищно — в лохмотьях, страшные колонны. Как мне казалось, были они людьми едва передвигавшимися, замученными. Но это не вызывало во мне никаких особенных чувств, потому что я воспитывался в абсолютно правоверной коммунистической среде. Заключенные — значит, осуждены правильно. За преступления. Ни взрослые, ни мои сверстники на улице, ни одноклассники — никто никогда не говорил, что среди заключенных есть невиновные. Я просто видел ужасную толпу, которую под конвоем гнали по дороге, когда я шел утром в школу.
Война застала нашу семью на Дальнем Востоке. Отец должен был пойти воевать и пошел на войну. Мы с мамой, Еленой Семеновной, и с братом Леней должны были уехать — Дальний Восток не был нашим привычным местом, мы ведь приехали туда из Москвы. В то время многие специалисты уезжали на Дальний Восток на заработки: мой отец, Андрей Афанасьевич, в Москве работал в Госплане, но, видимо, получка была такая маленькая, что на жизнь не хватало. Отец уехал на Дальний Восток раньше, а мы приехали к нему — сначала в Хабаровск, а потом отец решил провезти нас на пароходе вниз по Амуру, до Комсомольска-на-Амуре.
Амур — река потрясающая, безбрежная. С одного берега в Комсомольске-на-Амуре другого берега просто не видно. Волга — не совсем ручеек, но незначительная река в сравнении с Амуром тех лет. Мы плыли на пароходе, который назывался «Гоголь»; наутро, когда приплыли, все всполошились — началась война. Отец очень недолго проработал в Комсомольске-на-Амуре, я недолго проучился, затем отец пошел на фронт, а нам оставаться было совершенно ни к чему, и мы переехали к маминой сестре в Алма-Ату. Там было, видимо, полегче. Тогда мне было двенадцать лет.
Алма-Ата была городом потрясающей красоты: я потом бывал во многих городах, но Алма-Ата того времени стоит у меня перед глазами. Вы не были никогда в Алма-Ате? Этот город стоит в чаше, окаймленной снежными горами. По улицам той Алма-Аты журчали арыки, а над тротуарами склонялись огромные деревья. Был внушительных размеров городской парк; по-моему, Алма-Ата того времени описана у Юрия Домбровского в «Хранителе древностей». Зоопарк был огромный, что поражало — фруктовые деревья росли на всей территории, яблони, абрикосы, черешня, сливы. Все это было открыто, доступно всем. У моих товарищей по классу были отдельные дома — та часть города, в которой я жил, была одноэтажной. У большинства были потрясающие сады со знаменитыми яблоками «апорт». Но в остальном жизнь была голодная и тревожная. Мы ждали писем с фронта.
В 1943 году мы смогли вернуться обратно в Москву. Мама пошла на работу — директором школы. Первые салюты — по-моему, это было взятие Курска — застали нас уже в Москве. После Волховского фронта и Сталинграда отец, хоть оставался в армии, перестал двигаться вперед, поскольку стал работать в военной администрации, в штабе военного округа. Он был гидролог; специальностью его была гидрология и метеорология. Его оставили восстанавливать разрушенную войной гидрометслужбу Украины. Мы поехали к нему в Харьков.
Город несколько раз переходил из рук в руки и лежал в руинах. Мы жили в доме, который наполовину был разрушен. Дом стоял на площади Руднева; на той же площади было здание, где до войны помещался штаб военного округа, очень пышное. И уже при нас в этом здании обнаружили прятавшихся немцев.
Я недолго проучился в Харькове: отца перевели в Киев, и мы поехали вслед за ним. Этот город тоже был разрушен: его взяли 7 ноября 1944 года, и уже через пару месяцев мы приехали туда. Впрочем, в Киеве я тоже проучился недолго.
Я был дитя войны. Мы понимали, что такое война. Все ее ужасы. Разрушенный город — это кошмар. Город, лежащий в руинах. Ты идешь по улицам и видишь картины — чуть менее страшные, чем разрушенный Берлин или Сталинград. Отчаянно, конечно. Но что поразительно было для меня, что на Сумской улице в Харькове сохранялись еще остатки оккупационной жизни: какие-то частные лавочки, парикмахерские… Для меня, мальчика из Советского Союза, с советскими представлениями о жизни, частные лавочки выглядели странно.
После Харькова и Киева мы вернулись в Москву, и я вновь, после большого перерыва, поступил в московскую школу. Учился в 273-й школе, ее сейчас нет. Я думаю, мне повезло с классом. Одноклассники были интересные. Все много читали. В чтении было даже некое соревнование. Когда мы заканчивали школу, в классе было восемнадцать человек, и девять из них закончили с медалями. Школа находилась в Банном переулке, рядом с проспектом Мира, который тогда назывался Первой Мещанской улицей. Я думаю, одна треть из класса стали докторами и профессорами; был в нашем классе будущий выдающийся переводчик Витя Хинкис. Он перевел Джойса, Апдайка… одним словом, классик. Учился в нашем классе и был нашим товарищем Боря Носик. Он сейчас живет во Франции. Если вы зайдете в книжный магазин, то увидите большое количество шикарно изданных его произведений.
В старших классах очень много времени уделялось занятиям литературой. Дело в том, что перед нами была перспектива поступления в вузы — по возможности престижные. Для того чтобы туда попасть, нужно было получить медаль — это был самый простой способ. А для того чтобы получить медаль, сочинение на аттестат зрелости обязательно нужно было написать на пятерку. Это было условием и для золотой медали, и для серебряной. Учителя были хорошие — по-своему хорошие, любопытные. Как мне кажется, нестандартные. Учительница математики, наш классный руководитель, заботилась о том, чтобы мы читали серьезные книги, русскую классику. Проводила с нами довольно много времени: не забуду поездку всем классом в Мураново, усадьбу Боратынского и Тютчева. Учительница литературы требовала от нас длинных сочинений — мы ходили в Ленинскую библиотеку, читали дополнительную литературу. В общем, она добилась своего: научила нас писать сочинения так, что половина класса получила медали. Я был среди них.

Выступление на конференции адвокатов, 1962 год
Потом — куда поступать? Естественные науки меня не привлекали. Из гуманитарных… в общем, выбор пал на Юридический институт.
Юридическая профессия в моем представлении тогда никак не связывалась с репрессиями. В 1937 году мне было семь лет. Только спустя много лет я узнал, как моему отцу удалось избежать сталинской мясорубки. Дело в том, что в 1932 году его, недоучившегося студента, назначили на работу в Крым. В 1937-м, когда начались посадки, мы жили в Симферополе. Отец был правоверным молодым коммунистом из рабочей семьи — мужчины были потомственными плотниками. Секретарем Крымского обкома партии был старый коммунист, который отцу моему казался образцом партийного руководителя. И вдруг на пленуме его обвиняют в связи с арестованными врагами народа. Мой отец, молодой коммунист, выступает в его защиту. После пленума этот секретарь обкома подошел к отцу и сказал: «Андрей, забирай семью и немедленно уезжай». «Что? Куда? Зачем?» — удивляется отец. «Не рассуждай и немедленно уезжай», — закончил разговор секретарь. В течение одного дня мы собрали все пожитки, приехали в Москву, и отец подал заявление о восстановлении на четвертый курс института — по причине незаконченного высшего образования. И он стал учиться в институте. А тех, кто остался в Крыму, расстреляли — и отца моего бы погубили, шло же выполнение плана, нужна была отчетность. Но он уехал, и искать его не стали. Со своими разбираться надо было, сортировать, кого расстрелять, а кого — посадить. В Москве среди студентов тоже были аресты, но отец мой только приехал, не обзавелся друзьями, не успел установить даже товарищеских отношений. И когда арестовывали преподавателей и студентов, никто о нем ничего сказать не мог: он был абсолютно чужим человеком. Пронесло.
Так получилось, что среди друзей моего отца арестованных практически не было, и у меня нет такого опыта, как, допустим, у Лили Лунгиной: думаю, если бы отец мой остался в Крыму, его бы арестовали, и я бы понимал про репрессии больше. Но такого опыта у меня не было. У юриста благородная цель: борьба за справедливость. Я полагал, что буду в прокуратуре бороться со всякого рода преступлениями. Впоследствии так и получилось.
В Юридический институт я поступил в 1948 году. Я не хотел идти в МГУ: там юристов учили пять лет, а в институте — всего четыре года. Институт находился на улице Герцена; здание примыкало к Консерватории, и теперь там — Рахманиновский зал Консерватории. Тогда нынешний Рахманиновский зал назывался залом имени Вышинского, генерального прокурора, бывшего обвинителем на всех громких политических процессах. Когда я учился, он был, кажется, либо министром иностранных дел, либо заместителем председателя Совета министров. Такой у него был послужной список.
Студентом я видел Вышинского. Он выступал однажды перед нами: расскажу чуть позже.
Я был убежденным комсомольцем. Членом комитета комсомола, все как полагается. Абсолютно, абсолютно советский молодой человек, никаких даже колебаний не было. Конечно, я никогда не собирался быть адвокатом: что это за профессия такая, а? Наши органы не ошибаются. Следователь раскрывает все преступления. Действует безошибочно. Ну и что там защищать?! Кого? Тунеядцев? Хулиганов? Врагов народа? У которых земля должна гореть под ногами? Нет. Я буду следователем. Я буду — прокурором. Я буду бороться с преступлениями и делать это как можно лучше. Потом, была пропаганда: всякие фильмы, книжки, которые мы тогда читали, — скажем, «Записки следователя» Шейнина. Это сейчас океан детективов, а тогда с детективами было довольно скромно: Конан Дойль, Чосер, Честертон, Эдгар По и все. Но были фильмы: «Подвиг разведчика», «Ошибка инженера Кочина». Вышли «Рассказы майора Пронина» Льва Овалова — мы не знали, что Овалов, когда мы читали книгу, уже сидел в тюрьме «за разглашение государственной тайны в своих сочинениях». Бред, конечно.
Следователей приглашали в Юридический институт — в зале Вышинского у нас были встречи с практическими работниками. Судей почти не приглашали — что может рассказать судья? Что в его работе интересного? Следователи все раскрыли, все ясно, как на ладони, а судье остается только отмерить наказание. Тоска! Скучная работа. А адвокат и вовсе не нужен. А вот следователь, или прокурор — изобличители, и это самое интересное. Следователи приходили, прокурорские генералы. Хоть и «профсоюзные генералы», как тогда говорили про штатских, но они были в форме с погонами, как почти все чиновники того времени — Сталин всех одел в форму. Были среди следователей любители и мастера поговорить, они были очень занимательными рассказчиками. Я помню, был такой Тарасов-Родионов, следователь. Сухощавый, седой, крайне интересный господин. Настоящий господин, кстати: я потом только случайно узнал, что в двадцатые годы он был популярным писателем и писал очень хорошо. Впрочем, в двадцатые годы все хорошо писали. Приходил и Шейнин, и другие. Рассказывали нам, как разоблачили матерых преступников, как это им трудно далось, какие они придумывали ловкие ходы… Я не помню уже какие, но самое главное — они добивались признания. Раскаяния. Какими методами? Убеждением, конечно. Неужели же пытками? Кстати сказать, в прокуратуре того времени пытки были не в ходу. Прокуратура и пытки были совершенно несовместны: другое дело — НКВД, милиция. А следователи прокуратуры в этом не были замечены: дела они вели обычные, уголовные. Ну что же, такая деятельность меня ждала: интересная, захватывающая. А в адвокатуру из моей группы пошел всего один человек.
Я обещал рассказать про Вышинского. Он был к тому времени академик, академик права. Доктор, профессор, автор очень многих научных трудов. Он выглядел… такая обычная внешность дореволюционного русского интеллигента, правда, без бородки, но со щеточкой усов. Седоватый, в очках, невысокого роста, с выдающимися ораторскими способностями. Когда-то он был меньшевиком. Состоял помощником присяжного поверенного; по-моему, выступал адвокатом в каких-то процессах над революционерами. Во время Февральской революции занимал пост при Временном правительстве и даже требовал от подчиненных исполнить ордер на арест Ленина.
Я понимал, что перед нами, студентами, выступает настоящий профессор, академик, с потрясающей речью, потрясающим языком, с огромной эрудицией. В процессах — по делу Бухарина, Зиновьева и других — Вышинский вел себя как хулиган. Как визгливый хулиган. А перед нами, студентами, стоял совершенно выдающийся лектор.

С друзьями в Париже
Вышинский создал теорию для юридических злоупотреблений — объявив, например, что признание обвиняемого в политических процессах о заговорах имеет решающее значение. В теоретическом смысле это было совершенное мракобесие — но что мы тогда понимали? Чему нас учили? Две трети всех дисциплин в Юридическом институте были забиты марксистско-ленинской чепухой. Вне марксизма оставалась только латынь
Что же касается чисто правовых предметов, то, согласно Марксу, «право есть возведенная в закон воля господствующего класса». А значит, никакого естественного права нет. Естественной справедливости — тоже. Есть только классовый подход. Такая готтентотская мораль — если я увел чужую жену, то это хорошо. Если увели у меня, то плохо. Что такое воля господствующего класса? Горе побежденным. Сам господствующий класс диктует свои законы, и никакой справедливости в общечеловеческом смысле не существует.
Абсурдным мне это не казалось — такое было промывание мозгов.
Во время обучения, где-то среди рекомендованной литературы мне попались сочинения Анатолия Федоровича Кони. И вот чтение Кони оказало решающее влияние на всю мою последующую юридическую карьеру: его обвинительные речи, его напутственные слова присяжным той поры, когда он был председателем Петербургского окружного суда. Очерк о быте и нравах Петербургской прокуратуры, впечатления о суде присяжных — а Кони был поклонник суда присяжных, застал начало великой судебной реформы и принимал участие в громких процессах. Роль прокурора-обвинителя в суде он описывал так: «Прокурор — это говорящий судья». Судья не может высказываться, присутствуя в процессе. Он должен внимать тому, что происходит в суде. А прокурор от имени государства может изобличать порок — но должен при этом без всякого рода чрезмерных инвектив сохранять благородную сдержанную манеру говорящего судьи. Мое представление о подлинном правосудии, о настоящей прокуратуре, какой она должна быть, складывалось под влиянием Кони.

С друзьями Семеном и Лилианной Лунгиными и женой
Суд присяжных был уничтожен сразу после того, как большевики пришли к власти. Они его растоптали. Только революционный трибунал и революционное правосознание. За совершенное преступление — лишить свободы до победы мировой революции. Которая была, как известно, не за горами — казалось, что она вот-вот наступит. Октябрьскую революцию поддержит мировой пролетариат, более просвещенный, более готовый. Судьями были простые рабочие — кстати сказать, иногда очень хорошие судьи.
Из моих однокурсников никто не хотел идти в адвокатуру. Никто не хотел идти в нотариат — а сейчас это самая высокодоходная юридическая профессия. Самое лучшее распределение было — в МГБ. И еще — в военную прокуратуру.
На четвертом курсе мы пошли на производственную практику, и тут, конечно, с нас немножко слетела романтика — убогие помещения районных прокуратур, нищенская зарплата, абсолютно негероические следователи и прокуроры… Все оказалось совсем не так. А МГБ, МВД, милиция — там и зарплата выше, и работа героическая: борьба с вредителями, со шпионами. Молодость не хочет быть в тылу, а хочет — на передовую, на баррикады, в первые ряды борцов с врагами.
Мой одноклассник, вместе со мной поступивший в Юридический институт, пошел в МГБ. Его звали Леша О. Парень он был честный, работы в МГБ не выдержал и сошел с ума. Буквально. Заболел психически. В годы моего диссидентства, будучи сотрудником КГБ, приходил ко мне и просил, чтобы я его порекомендовал секретарем к Солженицыну. А Солженицын, хоть не был тогда Нобелевским лауреатом, был уже сильно преследуем. «Леша, что ты, как я тебя порекомендую, ты же в КГБ!»
Леша попытался установить контакт с западными спецслужбами. Его взяли в оборот; с ним разыграли, как они это называют, «опер-чекистскую операцию»: вместо сотрудника западной спецслужбы подсунули своего сотрудника. Леша пошел на встречу, его скрутили, судили, отправили в психиатрическую спецбольницу. Потом он вышел из больницы, совершенно спился и пропал.
Он не говорил мне, от чего сошел с ума. Но я понимал, что это произошло из-за столкновения его романтических представлений о том, что надо делать, с тем, что он увидел. Он не выдержал. Какие-то люди шли с надеждой; крушение Лешиных идеалов привело его в психбольницу.
В 1952 году, когда мы заканчивали институт, был разгул борьбы с буржуазным космополитизмом. Практически государственная антисемитская кампания. Национальность играла решающую роль при распределении. Хотя моя мама была еврейкой, мне это не помешало. Отец русский. Такой состав крови был еще приемлем. Все мои русские товарищи устроились на работу — Леша О. в ГБ, Андрюша Юницкий, мой близкий товарищ, женатый на красавице, дочери председателя Военной коллегии Верховного суда СССР, получил распределение в военную прокуратуру. Юра Поздеев, сын репрессированного, впоследствии известный адвокат и защитник диссидентов, не мог найти работу и чуть не покончил жизнь самоубийством. Еврейских ребят вообще не брали никуда. Разве что адвокатом в сельскую глубинку.
Меня направили на работу в прокуратуру Дзержинского района Москвы. Должность называлась пышно: народный следователь. Это была самая первая ступенька. Следователь я был незадачливый. У меня никто не признавался. Вообще, работа следователя в прокуратуре оказалась совсем не такой, какой я ее себе представлял: никаких засад, никаких погонь. Следователь прокуратуры образца 1952 года получал из милиции раскрытое дело. Раскрытое по горячим следам: кого-то арестовывали, допрашивали и в течение десяти дней дело передавали в прокуратуру, совершив первоначальные следственные процедуры. Дольше этого времени держать дело в своем производстве милиция не имела права; все сколько-нибудь значительные преступления — убийства, изнасилования, тяжкие телесные повреждения, взятки, хищения — расследовались прокуратурой. Милиция могла расследовать что-то незначительное, вроде простого хулиганства. Мы, следователи районной прокуратуры, никогда сами не возбуждали дело, не начинали, что называется, «с листа». Все, что случалось в сфере преступного, попадало в милицию, а потом уже передавалось нам. Понятно почему: большинство преступлений, девяносто девять процентов, раскрываются благодаря агентурной работе. Никаких Шерлоков Холмсов или Порфириев Петровичей нет — это все художественная литература. Следователь прокуратуры должен проверить, что добыла милиция, и, если доказательства убедительные, подготовить дело для суда в соответствии с процессуальным законом: провести допросы, очные ставки, экспертизы, составить обвинительное заключение. Во многом это была задача юридического чиновника, специалиста в области уголовного права и процесса; ничего особенно романтического в этом не было. То есть бывало, но крайне редко. У меня — не было.
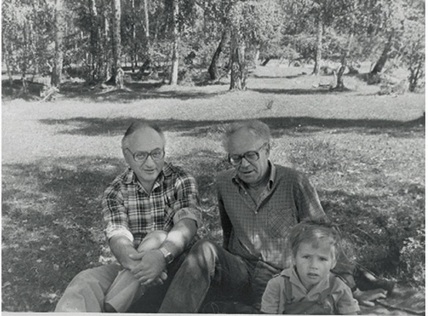
С писателем Феликсом Световым на Алтае
Однако у моего товарища по учебе и работе в прокуратуре Володи Ключанского было такое невероятно романтическое дело. Убийство.
Одна пожилая балерина — впрочем, с высоты моих теперешних восьмидесяти лет я понимаю, что она была молодой женщиной, ей не было и пятидесяти. Она соблазнила юного красавца, морского офицера. Дама имела большую историю, шлейф бурных романов — она не была балериной большого балета, танцевала в кордебалете. Любвеобильная особа. Среди многих ее мужей был даже англичанин с громкой фамилией Монтгомери. Где-то на юге она встретилась с этим офицером, совершенно его закружила, околдовала. Это был роковой роман. Он оставил флот, забросил работу. Они путешествовали по югу. Она в санаториях преподавала танцы. Не скоро, но все-таки он заскучал. Начались сцены ревности. Балерина водила возлюбленного на могилу своей дочери и требовала клятв в вечной любви. В конце концов она убила его и танцевала с его головой. Когда балерину разоблачили, дело попало к моему однокурснику Володе Ключанскому, работавшему старшим следователем городской прокуратуры. Его обвинительное заключение по этому делу само было похоже на роман: тут уж он дал простор своему литературному дарованию. Это было громкое дело со знаменитым адвокатом тех лет Брауде и талантливым прокурором.
Я же был следователем прокуратуры Дзержинского района. Работа была такая: я получаю дело из милиции и иду к обвиняемому в тюрьму. Еще стояла Таганская тюрьма, которой сейчас нет: во времена Хрущева, после его заявления о том, что «преступность надо сокращать», ее разрушили. Тогда эта тюрьма поражала воображение: стерильной чистоты дворы, через которые я иду. Потом поднимаюсь в следственный корпус с до блеска натертыми паркетными полами — рабочая сила даровая, — но повсюду неистребимый запах кислых щей. Ко мне приводят обвиняемого. Я представляюсь: «Следователь прокуратуры Дзержинского района. Вы обвиняетесь в том-то и том-то», достаю подготовленное мною постановление о предъявлении обвинения. В течение десяти дней я должен предъявить обвинение, а если не предъявляю, то должен арестованного из-под стражи освободить. В общем, я обязан прочесть постановление о привлечении арестованного в качестве обвиняемого и спросить его: «Признаете ли вы себя виновным?» Он же в милиции уже признался — то ли надавили на него, то ли что еще, я не знаю, за милицию поручиться не могу. А тут арестант видит перед собой желторотого, двадцатидвухлетнего молодого человека из приличной семьи. После вопроса «Признаете ли вы себя виновным?» он резонно думает: «На хрена мне признавать себя виновным?» И, конечно, отвечает: «Не признаю». — «Но вы же в милиции признали себя виновным!» — «А на меня нажали, меня обманули!»
И так — по всем делам. «Вы признаете себя виновным?» — «Нет, не признаю». Ну, ладно. Большого значения это признание, конечно, не имеет: есть свидетельские показания, вещественные доказательства, экспертиза. Я занимаюсь своей работой, и признание — не очень существенно. Я направляю дела в суд — может, это и лучше, что признания нет, поскольку признание усыпляет следователя, а тут надо дополнительно поработать, собрать доказательства, чтобы дело выглядело должным образом.
Дело передается в суд, выносится обвинительный приговор, и, в общем, в профессиональном плане мои дела идут нормально. Но высшего пилотажа-то я не показываю: что же это за следователь, у которого обвиняемые сами не признаются? Это не следователь, а третий сорт, даже и не второй.
Аппарат Дзержинской прокуратуры небольшой. Прокурор района, Морозов. Не помню, как его зовут, участник войны, раненый, сильно хромает, спокойный, разумный. Старший следователь — Лиза Шапиро. Следователь, Ниночка Ильина, она потом большую карьеру сделала, совершенно очаровательная молодая женщина. И двое парней — один с войны, Леша Рогов, бывший авиационный механик. И второй — Бобров из прокурорской семьи. Со мной пять следователей и еще четыре помощника прокурора. Я, стажер, прикреплен к старшему следователю, к Лизе Шапиро, Елизавете Григорьевне Шапиро. Особой карьеры она с такой фамилией сделать в то время не могла: ее не уволили из прокуратуры только потому, что ее муж погиб на фронте. Я же пришел как раз на место уволенной в чистке еврейской женщины. Кроме Лизы Шапиро в прокуратуре осталась еще одна еврейка: помощник прокурора Вера Борисовна Гольдберг. Пламенная комсомолка, с пышной седой шевелюрой. Она была приятельницей главного редактора газеты «Правда» Дмитрия Трофимовича Шипилова, который потом был министром иностранных дел и членом Политбюро. Злые языки говорили, что у Веры Борисовны, матери-одиночки, есть сын Димочка — от Шипилова как раз.
Следователь прокуратуры должен был расследовать двадцать дел в месяц. Но это невозможно — какие двадцать дел, когда нормальное хозяйственное или уголовное дело требует достаточного количества времени. Хотя бы потому, что по всем насильственным делам должна проходить судебно-психиатрическая экспертиза, а пока ее проведешь, месяц и два пройдут.

С женой Мариной и экс-президентом США Ричардом Никсоном, 1992 год
Тогда в стране были запрещены аборты. По медицинским показаниям они, конечно, проводились, а в остальных случаях — подпольно. Какие-то врачи, в каких-то квартирах. Абортмахеры. Домашние условия априорно считаются антисанитарными; за такой аборт суровое наказание — лагерь, тюрьма. Но шли на это — надо было жить, а у врачей всегда была чудовищно низкая зарплата. Кроме того, были бабки, которые по-своему умели делать аборты. Не всегда удачно.
Поступает женщина с кровотечением в гинекологическое отделение больницы. Ее не кладут на операционный стол, пока она не скажет, кто ей сделал аборт. Но ведь сказать — это надо предать врача! Которого ты уговаривала, который не хотел и сделал операцию в порядке исключения. Как правило, опытные женщины говорили: «Я сама себе сделала аборт». Раз сама — кладут на стол. А в карте записывают — «самоаборт». Что тоже по советскому закону преступление. Из больницы данные направляли по районным прокуратурам — это же не милицейская подследственность, а прокурорская, то есть важное преступление.
Поступали пачки подобных сообщений. Аборт дело-то житейское, противозачаточные средства на пещерном уровне, 1952 год. По делам о самоабортах возбуждалось уголовное дело, женщина привлекалась к ответственности, а дело направлялось в суд. Там ей назначали наказание в виде общественного порицания, и на этом — все. При этом все дело начинается и заканчивается в один день. Замечательная вещь: за месяц таких дел можно хоть тридцать «расследовать»! То есть для статистики достаточно, если ты проведешь одно серьезное дело и девятнадцать таких. Недостатка в них нет, и прокурор ведет им учет, чтоб отчетность была в ажуре. Блестящий процент раскрытия преступлений, все в порядке.
Но не у меня. Приходит дама. Я спрашиваю ее: «Каким образом вы самостоятельно сделали аборт?» А в ответ: «Я ничего не делала!» Я предъявляю обвинение, а мне, как раньше арестанты в Таганской тюрьме, она отвечает: «Виновной себя не признаю. Я ничего не делала. Шла по улице, поскользнулась, упала, началось кровотечение. Привезли в больницу. Я ни в чем не виновата». Я вынужден прекращать дело, поскольку других доказательств ее вины у меня нет. Дело не направляется в суд. Статистика падает. Кошмар! Проходит первый месяц. Мне направили пятнадцать дел. Я все пятнадцать прекратил. Лиза Шапиро, старший следователь, говорит мне: «Борька! Что это у тебя такое? Почему все прекратил?» Женщина грубоватая, но симпатичная, Лиза Шапиро со мной не церемонилась. Я отвечаю: «Елизавета Григорьевна, но они же не признают вину!» «Да что ты, туда-сюда! У тебя еще дела остались?» — кричит Лиза. «Остались», — отвечаю. — «Вызывай всех повестками на один день с интервалом в полчаса, я тебе покажу, как надо делать».
Я вызываю женщин. Приходит Елизавета Григорьевна ко мне в кабинет — невысокого роста, темпераментная, с вьющейся шевелюрой, очень решительная. Заходит обвиняемая. «Ну, рассказывай: какой врач тебе аборт делал?» — спрашивает Лиза. «Да никакой! Я сама!» — защищает врача женщина. «Признаешь свою вину? Тогда подписывайся под обвинением», — говорит Лиза. И все до одной — признались. Все «преступления» раскрыты! Лиза меня спрашивает потом: «Ну что, ты все понял?» — «Конечно, понял. Но, Елизавета Григорьевна, как можно задавать вопрос, который не вытекает из дела? Мы не можем спрашивать ее про врача, если в деле написано — «самоаборт». «Но ты ведь видишь разницу? А значит, у тебя неправильная тактика ведения допроса», — продолжает Лиза.
И с этого момента статистика у меня была очень хорошей. Я всегда заканчивал свои двадцать дел. И то, что сказала Лиза, — правда. На самом деле моя тактика была неправильной — мы же добивались только полуправды. Кто-то ведь аборт этим женщинам делал, и мы заключали соглашение, удобное для обеих сторон: я не хотел крови этой женщины, а она не хотела крови своего врача. А я еще и отчитывался.
Карьера следователя у меня явно не получалась, но тем не менее репутация юриста, осведомленного в законах в тех небольших пределах, которые требовались для моей работы, у меня была. Через полтора года меня повысили — перевели в аппарат прокуратуры города. А значит, из следователя я превращаюсь в прокурора. Это было в январе 1954 года; карьера, рост. В следствии я разбираюсь плохо, но в прокуратуре страшный кадровый голод из-за чисток, и таких желторотых, как я, назначали помощниками прокурора города. Не бог весть что, просто пышное название должности. В аппарате было человек сто, может быть, чуть больше, и все назывались помощниками прокурора города или прокурорами отделов. Что одно и то же. Я был зональным прокурором следственного отдела. Есть сколько-то районов в Москве — двадцать-тридцать, уже не помню, — соответственно, столько же прокуратур. Зональный прокурор должен был надзирать за законностью расследования дел в районных прокуратурах. В сущности, моей квалификации было достаточно для того, чтобы посмотреть, соблюдается ли процессуальный закон, но совершенно недостаточно для того, чтобы дать следователям указания, как им проводить расследование. Задача же состояла в том, чтобы приехать в прокуратуру, изучить дела, обнаружить нарушения закона, если они есть, и потребовать их устранения. А еще дать письменное указание о дальнейшем направлении расследования. Ну, по каким-то простым делам я это могу сделать. Но по делам о сложных хищениях государственного имущества, которые связаны с бухгалтерскими и экономическими экспертизами, я «не копенгаген», я ничего не могу. А некоторые следователи в районах зубры, как Лиза Шапиро, они опытные. Помню, приехал я в прокуратуру Первомайского района. В ней следователи все прошли войну. Взрослые мужчины. То есть, конечно, по возрасту очень молоды, пятью-шестью годами старше меня, но — прошли войну. Мой друг Юрий Левитанский, потрясающий поэт и человек, был на восемь лет меня старше. Мы как-то с ним разговаривали о возрасте, и я ему: «Юра, что ж вы так! Ну, старше вы меня всего на восемь лет, и что?» А он ответил: «Я старше вас не на восемь лет, а на одну войну». Война, конечно, чудовищный опыт. Так вот. Старший следователь той прокуратуры, который был старше меня на одну войну, и еще два следователя, старше меня годами, вынесли мне стопки дел, когда я пришел к ним давать указания. Многотомные хозяйственные дела. Я просидел над ними целый день. Мало что понял. Заканчиваю работу. Настроение отвратительное. «Ну, как, Борис Андреевич?» — спрашивает старший следователь. Я ему что-то отвечаю, а он продолжает: «За нашу прокуратуру вы можете спать спокойно. У нас все в полном порядке».
Прошло четыре года. И в 1958 году всех следователей этой прокуратуры арестовали. За взятки. Это было уже без меня. Прокурором следственного отдела я проработал недолго.
Прокуратура города Москвы по законам того времени обязана была надзирать за рассмотрением дел в Московском городском суде. Это значило в том числе, что прокуроры обязаны были выступать там государственными обвинителями по всем делам. Делали это работники прокуратуры города по очереди. Получил предписание выступать и я. Пошел, и мне понравилось. Наконец я получил дело, о котором мечтал в институте.
Мой начальник отдела был недоволен тем, что ему приходиться постоянно отвлекать прокуроров от их дел, от их прямой работы, и направлять в суд. Суд идет месяцами. В это время зона остается без надзора. Я предложил начальнику, что буду ходить в суд один за всех прокуроров отдела, если он освободит меня от другой работы. Ему эта идея понравилась. Так я стал постоянным государственным обвинителем в Московском городском суде.

С коллегами по прокуратуре Дзержинского района
Я был на седьмом небе. Начальник моего отдела мне уже не начальник. Я не должен приходить на работу в городскую прокуратуру к десяти часам утра, поскольку я числюсь в суде. Я не должен заканчивать работу в шесть часов вечера по той же причине. Я приезжаю утром в суд — дела многотомные, групповые, как правило, о крупных хищениях, я месяц должен готовиться к процессу — и должен сидеть в суде, читать дело. Но там неудобно. Я беру том дела домой. Я целый день изучаю его, а вечером привожу в суд. Такой порядок помогает мне тщательно готовиться к делам и не уступать адвокатам в знании материалов дела. Я — свободный казак. Начальство мной не интересуется. По окончании дела я заполняю отчет и получаю новое предписание. После ХХ съезда казалось, что можно вступать в партию. Я выступал по уголовным делам, обвинял тех, кто совершал преступления, и никаких сомнений в их вине у меня не было. Никто мне не давал указаний, какую меру наказания требовать: сам должен был решать. Я был совершенно самостоятелен в своей работе. Полная независимость, свободное время. У меня прекрасные друзья, чудное общение. Зарплата маленькая, но у меня обеспеченные родители, так что и с этим проще. И так продолжается года три. До 1959 года.
У меня возникали разногласия с одной из судей — Апариной. Она отличалась от всех своей исключительной жестокостью. На фоне довольно суровой карательной политики она хочет быть святее папы римского. А я стараюсь быть умеренным — хотя наказание за хищение государственного имущества могло достигать двадцати пяти лет лишения свободы. Рассматривает Апарина дело о взяточничестве. Я прошу назначить пять лет лишения свободы, она назначает семь. Вообще-то это нехорошо, когда прокурор оказывается мягче суда. Но руководство прокуратуры со мной соглашается, считает мое предложение справедливым.
Наконец ко мне попадает дело о хищении в системе вторсырья. Обвиняют работников районной конторы. Групповое дело — пятнадцать обвиняемых. Я читаю это дело и говорю начальнику отдела, что обвиняемые не виноваты в хищениях, а виноваты в обмане потребителей и в злоупотреблении служебным положением. А это уже совсем другая перспектива. Потому что если хищение — то длительные сроки лишения свободы, особый порядок досрочного освобождения, запрет на жизнь в столице и других крупных городах. А статьи, в которых они виноваты, менее грозные: по ним и наказание меньше, и досрочное освобождение раньше, и никаких дополнительных поражений в правах. Я говорю, что не смогу поддерживать обвинение в хищении. Начальник мне объясняет: «Борис Андреевич, ситуация не так проста, как вам кажется. Это дело — последнее из серии аналогичных. Уже прошло пятнадцать подобных дел по районным конторам вторичного сырья в Московском городском суде. Все подсудимые получили наказание за хищение. Все эти дела рассмотрены Верховным судом РФ, который подтвердил хищение. Уже сложилась судебная практика. Это преступление считается хищением. Вы хотите сказать, что рота идет не в ногу, а поручик — в ногу?!» Но я предупредил, что обвинять подсудимых в хищении не смогу.
Начальство предложило мне продолжать изучить дело, пообещав ближе к суду разобраться. Изучаю. Ничего нового для себя не обнаруживаю. Перед началом судебного рассмотрения снова предупреждаю начальство о своей позиции. Снова слышу: «Закончится судебное следствие, тогда поговорим». Суд идет два месяца, и я своему начальнику, Александру Ивановичу Михайлову, очаровательному человеку, ближе к завершению процесса снова говорю, что не могу обвинять людей в хищении, которого они не совершали. «Хорошо, — отвечает он, — пойдемте к прокурору города».
Прокурор города — большое начальство. У меня четыре маленьких звезды на погонах, а у него — две больших генеральских звезды. Прокурор города меня вразумляет: «У нас в прокуратуре — единоначалие. Я, прокурор города, утвердил это обвинение. А вы — мой помощник». Я спорю: «Да, я — ваш помощник, я должен выполнять ваши указания, но ведь в Уголовно-процессуальном кодексе записано, что прокурор, участвующий в процессе, действует на основании закона и своего внутреннего убеждения. И закон, и мое внутренне убеждение говорят, что обвиняемые в хищении не виноваты». — «Я вам приказываю обвинять в хищении! Вы как думаете, если мне генеральный прокурор Роман Андреевич Руденко дает указания, я что, с ним спорю?» «Я надеюсь, да», — отвечаю. «Нет. Я выполняю его указания», — подводит итог городской прокурор.
Я иду в суд. Произношу обвинительную речь и прошу оправдать подсудимых по обвинению в хищении, осудить за обман и злоупотребление служебным положением.
К речи я подготовился основательно. Я не действовал отчаянно. Предварительно поехал к своему профессору уголовного права, замечательной женщине Т.Л.Сергеевой, специально занимавшейся разработкой понятия «хищение» в советском праве: «Вот такая у меня коллизия. Я считаю, что хищения нет». Она говорит: «Вы совершенно правы. Нет тут хищения». Но я не остановился и на этом. Поехал в прокуратуру СССР. А там в отделе по судебному надзору были образованные молодые прокуроры, которых я знал. И они тоже сказали, что я прав. «Но, — добавили они, — ситуация сложная. И вообще, зачем ты на рожон лезешь? Мы как раз собираемся брать тебя к нам, в прокуратуру Союза». Так что, когда я произносил речь, был полностью уверен в своей правоте.
Адвокаты, услышав меня, были в недоумении: они готовились к защите от грозных обвинений и отрастили огромные зубы, чтобы меня терзать. Я же от обвинения в хищении отказался, и им оставалось только сказать: «Мы согласны с товарищем прокурором».
Судья Апарина, не согласившись со мной, осуждает всех за хищения. После этого прокурор города запретил мне выступать в суде. Я лишился возможности делать свою работу в соответствии с моим представлением о ней.
Я подал рапорт об уходе и в тот же день получил отставку. Желая наказать меня, прокурор города в характеристике, которую я должен был предъявлять по новому месту работы, среди прочего написал: «…?В последнее время допускал ошибки в карательной практике, ходатайствуя о необоснованно мягких наказаниях». С такой характеристикой я направился в адвокатуру, где меня уже достаточно знали и охотно приняли.
К тому времени я уже несколько лет провел в суде. Наблюдал работу адвокатов и постепенно приходил к мысли, что мое место в защите. Первое дело, которое мне досталось в адвокатуре, было дело о мужеложстве. В то время гомосексуализм считался преступлением, и за него сажали. Это было время, когда большое дело возникло в Московской консерватории. Среди осужденных по этим нелепым обвинениям был выдающийся молодой пианист, лауреат Конкурса имени Чайковского. Осколок дела попал в районный суд. Обвиняемые — студент Консерватории, Ленинский стипендиат и редактор одной из музыкальных редакций радио — не могли оплатить адвоката. Суд назначил бесплатным защитником меня. Подсудимые признали характер своих отношений и под стражей не были. Мне надо было искать какую-то линию защиты. С точки зрения судебно-психиатрической науки того времени, подобного рода влечения считались аномалией характера. С точки зрения уголовного закона — преступлением. Других дел у меня не было. Зато уйма свободного времени. Я пошел в Ленинскую библиотеку, прочитал все, что было доступно. Узнал, что однополая любовь встречается и в животном мире. Прочитанное давало возможность говорить о биологической причине таких влечений. Моя защитительная речь была скорее лекцией о биологической природе этого явления. Судьи, как мне казалось, слушали с интересом и оставили подсудимых на свободе.
Сначала были дела, которые мне поручали в консультации. Своих дел не было. Потом — появились. Прошло какое-то время, все шло успешно. Мне очень нравилось в адвокатуре — совершенно другая, свободная атмосфера. Каждый вечер мы собирались в консультации Дзержинского района, на Колхозной площади. Рядом была пивная, и при входе в консультацию ароматы были очень тяжелыми — не все успевали из пивной дойти до туалета. Внешне все выглядело, конечно, ужасно — нищенские суды, нищие консультации. Но вечером мы собирались, обсуждали свои дела, вели бурные дискуссии — и правовые, и тактические. Консультация была хорошей, и там я познакомился с мужем Дины Исааковны Каминской Константином Симисом. Мы подружились на долгие годы. Навсегда, можно сказать — до смерти Дуси и Кости.

Заседание Верховного совета РСФСР
Через три года, в 1963-м, меня выбрали членом президиума коллегии адвокатов. В 1965-м году возникло дело Синявского и Даниэля. Председателем коллегии адвокатов был выдающийся адвокат Василий Александрович Самсонов. Меня с Самсоновым кроме дружбы связывало еще и то, что я был членом президиума коллегии адвокатов, а он — председателем. Еженедельно мы заседали вместе. Были соратниками в борьбе за расширение прав адвокатуры.
У Самсонова был опыт участия в политических делах. Он был защитником в деле студентов исторического факультета МГУ. Это было «дело Краснопевцева». И я, и он прекрасно понимали, что и дело Краснопевцева, и дело Синявского и Даниэля совершенно абсурдны.
Синявского и Даниэля арестовали за публикации рассказов на Западе. Мы с Самсоновым обычно возвращались с заседаний президиума вместе. Однажды Самсонов сказал: «Борис Андреевич, расследуется дело писателей. Скорее всего, обратятся ко мне. Тогда мы с вами проведем это дело. Так что — готовьтесь, созревайте». «Хорошо, — сказал я, — для меня честь, Василий Александрович, быть с вами в одном процессе». Он был блестящим защитником. Для адвоката внешность тоже имеет значение. Адвокатура — отчасти театральная профессия, нужно расположить к себе суд. У Самсонова была, что называется, абсолютно счастливая наружность: очень приятный облик, благородная манера держаться — все было при нем. Спустя какое-то время, в очередной раз, когда зашла речь о деле Синявского и Даниэля, Самсонов сказал: «Борис Андреевич, мы с вами в этот процесс не пойдем. Это дело установочное». Это означало, что от адвокатов потребуют на просмотр защитительные речи и будут диктовать поведение в процессе. А на это ни он, ни я не согласились бы.
«Процессу четырех» — делу, в котором я защищал Александра Гинзбурга, — сначала власть не придавала такого значения, как делу Синявского и Даниэля. И я считал, что у меня будет возможность свободной защиты: дело открывает возможности для безукоризненной правовой позиции. Неуязвимой. Гинзбурга, создавшего «Белую книгу» — сборник документов о деле Синявского и Даниэля, обвиняли в антисоветской пропаганде. Когда писателей арестовали, Гинзбург прочитал их книги. Гинзбург, как и многие, был возмущен расправой над ними. Он понимал абсурдность суда и решил наглядно продемонстрировать это, собрав воедино все отклики на дело, присоединить к ним запись судебного заседания и направить сборник властям. Один экземпляр отнес в приемную КГБ, другой показал депутату Верховного Совета писателю Эренбургу. Между тем сборник попал на Запад. Тогда арестовали Гинзбурга, его друга Галанскова, машинистку Веру Лашкову и некоего Добровольского, ставшего их изобличителем. Материалов для защиты было достаточно. В «Белую книгу» Гинзбург поместил очень выразительное письмо писателя и члена ЦК компартии Франции Луи Арагона в защиту Синявского и Даниэля, аналогичное письмо генерального секретаря коммунистической партии Великобритании Джона Голлана, письмо шестидесяти двух известных советских писателей. Мне удалось доказать, что Гинзбург «Белую книгу» за границу не передавал, и я с полным основанием настаивал на его оправдании.
Несмотря на это, Гинзбурга осудили на пять лет лагерей. Невеста Гинзбурга, ставшая вскоре после процесса его женой, и его мать законспектировали мою защитительную речь. Конспект этой речи передали западным журналистам. Его напечатал французский журнал «Нувель Обсерватер», на следующий день передали радиостанции, вещавшие на Советский Союз. Стало ясно, вопреки усилиям советской прессы, что Гинзбург невиновен. На следующий день после радиопередач меня вызвали в райком, я был членом партии, и потребовали опровергнуть мою речь. Я отказался. Меня исключили из партии, а через три месяца и из адвокатуры. Мне было тогда 38 лет. Вернуться в адвокатуру я смог только во время перестройки, через двадцать лет, когда мне исполнилось 58.
После исключения из адвокатуры в профессиональном смысле я жил очень скучно: двадцать лет я был юрисконсультом, что мне было совершенно неинтересно.
Диссиденты нуждались в юридических советах. Мой дом стал юридической консультацией для очень многих: от Солженицына до матери Анатолия Щаранского.
В 1990 году друзья убедили меня баллотироваться в народные депутаты РСФСР. Меня поддерживал «Мемориал»; думаю, если б не «Мемориал» и не его активистка Надежда Анатольевна Богатикова, возглавившая мою избирательную кампанию, а потом работавшая моим помощником, не был бы я депутатом.
Перед выборами ко мне пришел симпатичный молодой посол из «Мемориала» и стал спрашивать про мое, как говорится, кредо. У них был тест на три персоны: Ельцина и на следователей Гдляна и Иванова. Он спросил, как я отношусь к Ельцину, и я ответил: «Скорее отрицательно». На самом деле я относился к Ельцину неплохо, но не был им очарован. Впоследствии я решительно изменил отношение к Ельцину.
Когда же меня спросили, как я отношусь к Гдляну и Иванову, я сказал: «Я к ним отношусь ужасно». Я считал их недобросовестными следователями, видел в их работе фальсификацию и злоупотребление властью: люди кончали жизнь самоубийством.
Мы поговорили, и посол ушел от меня разочарованный — тестов я не выдержал. Я не думал, что «Мемориал» меня поддержит, но ошибся. Избирательная кампания была простая и недорогая. Всех затрат — две мои зарплаты. Примерно триста рублей — взнос, и еще столько же собрали мои товарищи. Я баллотировался в центре Москвы. В моем округе оказалось самое большое в России число претендентов на одно место — 21. Но мы победили. В депутаты я шел с готовой программой. Мне хорошо была известна советская карательная система с бездушием и презрением к человеку.
Между тем в России до Октябрьского переворота существовало образцовое правосудие, введенное Великой судебной реформой 1864 года. Главным достижением ее был суд присяжных. Я мечтал вернуть в новую Россию справедливый суд. Став депутатом, я предложил образовать в Комитете по законодательству подкомитет по судебной реформе. Меня выбрали председателем подкомитета. Я пригласил выдающихся ученых, юристов, известных своими либеральными воззрениями, и предложил им включиться в работу по созданию концепции судебной реформы, которая включала бы возвращение суда присяжных и вводила все современные достижения демократического судопроизводства. Никогда не устану с благодарностью повторять славные имена моих коллег: С.Е.Вицина, А.М.Ларина, И.Б.Михайловской, Т.Г.Морщаковой, Р.Ф.Назарова, И.Л.Петрухина, Ю.И.Стецовского. Все лето 1990 года мы разрабатывали концепцию. В сентябре 1990 года к нам присоединился молодой талантливый ученый С.А.Пашин, на долю которого выпал труд написания итогового текста концепции. Тогда же, в 1990 году, я стал членом Конституционной комиссии, и мне был поручено руководить работой по подготовке главы «Судебная власть». Работали мы тем же коллективом, что и при разработке концепции судебной реформы. Идеи концепции нашли воплощение в Конституции России. Сейчас многим трудно поверить, что колоссальный труд авторского коллектива был совершенно бесплатным. Время работы над Судебной реформой и над проектом Конституции было счастливейшим в моей жизни. 24 ноября 1991 года концепция была утверждена Верховным Советом России и стала первым в истории нашей страны законодательным фундаментом построения одной из трех ветвей государственной власти. 12 декабря 1993 года была принята Конституция России. Воплощение идей Судебной реформы, бурно начавшееся в девяностые — годы наших надежд, сменилось годами контрреформы, стремящейся затоптать достижения девяностых. Но я надеюсь, что вернутся времена, когда прерванный процесс возвращения в Россию подлинного правосудия возобновится.
Во время вооруженного мятежа, поднятого в октябре 1993 года сторонниками Хасбулатова и Руцкого, я вместе с демократической частью Съезда народных депутатов поддержал Ельцина. Потом была Государственная дума первого созыва. Там мне посчастливилось тесно сотрудничать с Егором Тимуровичем Гайдаром, великим реформатором и человеком огромного ума и обаяния. Его безвременную кончину переживаю как личную драму.
В последние годы я не принимаю участия в политической жизни, поскольку не вижу политической силы, к которой хотел бы примкнуть. На выборах голосовал я всегда за либеральные партии. Теперь проголосую за «Яблоко». На президентские выборы, скорее всего, не пойду. Я продолжаю участвовать в некоторых правозащитных проектах. Я член Московской Хельсинкской группы, член правления общества «Общественный вердикт». Мне 80 лет. Есть еще много книг, которые я хотел бы прочитать, и музыки, которую хочу слушать.

