Врачи большого города. Патологоанатом
Любовь Севергина — о том, чем патологоанатомы занимаются на самом деле, мифах «черной трансплантологии», технической стороне дела и «X-Files»
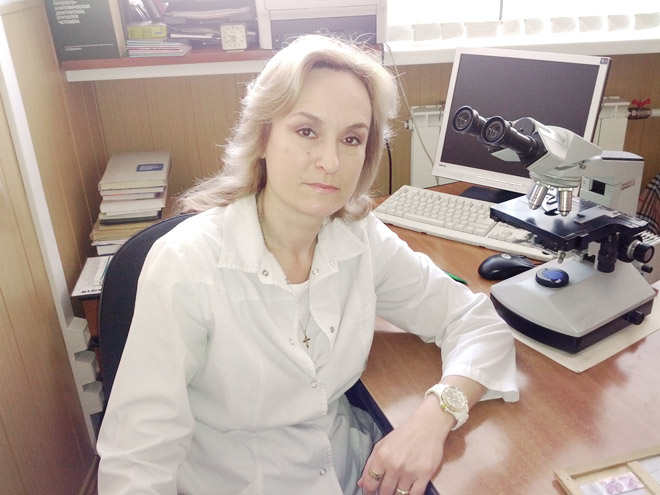
Возраст: 43 года
Образование: окончила Московскую медицинскую академию им. И.М.Сеченова (сейчас это Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова), субординатуру и аспирантуру по патологической анатомии в ММА им. И.М.Сеченова.
Работа: кафедра патологической анатомии и центральное патологоанатомическое отделение ПМГМУ им. И.М.Сеченова.
Регалии и звания: кандидат медицинских наук, доцент.
О стереотипах
Часто, когда говорят про патологоанатомов, представляют себе здоровенного детину, размахивающего ножом и перепачканного кровью. На самом деле вскрывают тело и черепную коробку санитары, а доктор работает головой. В Европе вообще три этапа: сначала действует санитар, затем фельдшер разрезает органы — и только потом приходит доктор. У нас врач сам разрезает органы, как ему удобно. Мне так больше нравится.
Когда я говорю новым знакомым, кто я по профессии, первая реакция: «Ой, ты с трупами работаешь!» Очень однобокое представление о патологоанатомах. Мы же занимаемся не только этим. Вот я смотрю биопсию и пишу заключение: «Рака нет». Клиницист говорит об этом пациенту, и тот кидается ему на шею: «Спасибо, доктор!» Но доктор в данном случае выступает как передаточное звено, а значение патологоанатома нивелируется. Вообще, мне кажется, клиницисты должны нас больше уважать. Мы не обслуживающий персонал, а равноправные коллеги.
О кругозоре
Патологоанатомическое отделение Первого меда сотрудничает со всеми клиниками, находящимися в районе Большой Пироговской улицы. Это колоссальная нагрузка, но она и должна быть такой. Эндокринологи, неврологи, урологи, гематологи, офтальмологи очень хорошо адаптированы в своей теме, они много могут рассказать про лечение профильных пациентов, про особенности развития болезни у этого конкретного человека. Но если спросить у такого врача, как лечить больного из клиники другого профиля, он ничего не ответит. А я вынуждена сегодня вскрывать пациента с эндокринологическим заболеванием, а завтра — с урологическим. Сейчас передо мной лежат стекла, где есть разные материалы: от полипов носа до соскобов эндометрия (слизистая оболочка матки. — БГ). И чтобы грамотно все объяснять клиницистам, общаться с ними на их уровне, ты должен всегда быть в тонусе. Патологоанатом обязан много читать и быть в курсе всего, обновлять свои знания регулярно. Поэтому я считаю, что в нашей среде дураков практически нет. Даже, бывает, лечащие врачи звонят, просят помочь грамотно сформулировать диагноз — это показательно и приятно. Однако, безусловно, у каждого патологоанатома, который занимается наукой, есть какая-то специализация.
Наши патологоанатомы гораздо лучше натасканы, поскольку вынуждены больше работать и читать в силу проблем с техническим оснащением
О пожилых врачах
Патологическая анатомия — это, наверное, единственная медицинская специальность, в которой нет верхней возрастной границы: чем дольше человек смотрит биопсии, тем круче становится его мозг, эту базу в голове не заменишь ничем. У всех нас, конечно, шкафы полны специализированных книг, мы туда регулярно заглядываем, это не зазорно. Но после каждой биопсии, каждого вскрытия в голове должно что-то откладываться. Бывают очень редкие опухоли, которые врач может увидеть раз в жизни. Например, в Средиземноморье одно время тесно жили армяне и евреи, и в результате у их потомков оказался крайне высок риск развития редких опухолей, наследственного амилоидоза. У меня была пациентка — пожилая еврейка с такой опухолью, которую я больше никогда не видела, — рецидивирующей липосаркомой в брюшной полости. Конечно, я навсегда запомнила, как выглядит эта опухоль под микроскопом.
Так что старшее поколение патологоанатомов у нас на вес золота, мы к ним регулярно ходим консультироваться. Их с трудом отпускают на пенсию, предлагают должности научных консультантов. В Институте туберкулеза, например, работает Ирина Павловна Соловьева, которой уже больше 80 лет, — за диагнозом к ней едет вся Россия, она лучше любого знает, как выглядят разные формы туберкулеза. А вот с хирургами, например, все по-другому — в определенном возрасте они вынуждены уходить из профессии.
О втором мнении
Я очень положительно отношусь к тому, что пациент приходит и говорит: «Я хочу проконсультироваться еще и у другого специалиста». Это меня не обижает: чем больше врачей смотрит биопсию, тем лучше для пациента. Но у нас учился аспирант из другой страны (бывшей советской республики), он мне рассказывал, что у них есть принцип аксакальства. Старший товарищ может посмотреть биопсию и сказать: «Я вижу здесь перстневидноклеточный рак желудка». Даже если младший коллега этого не видит, поправить диагноз он не может. Это ужасно. Я слышала от людей, которые занимались медициной в армии, что там очень тяжело работать в патанатомии по той же причине.
Про хорошее оборудование и его минусы
В Америке практически все патологоанатомы консультируются в интернете, выкладывая изображения, которые микроскоп выводит на монитор (у нас, к слову, такого оборудования очень мало). В США еще используют такую программу, которая анализирует это изображение и выдает все возможные варианты заболевания, а врач потом выбирает из них. Мы же всегда работаем головой. Наши патологоанатомы гораздо лучше натасканы, поскольку вынуждены больше работать и читать в силу проблем с техническим оснащением.
Я ставлю диагноз, свою подпись под ним, и от этого зависит жизнь человека. Вот почему материал для исследований должен быть подготовлен идеально: аккуратно порезан острым ножом на хорошей аппаратуре, важно, чтобы он находился в качественном формалине, препарат должен быть прекрасно окрашен, лежать на тонких стеклах. А у нас полстраны работает на стеклах толщиной с оконные. Просто традиционно на патологоанатомическую службу выделяются средства по минимуму.
У нас не бывает так, как в «Секретных материалах», когда одна несчастная дама все режет и что-то наговаривает в темноте на диктофон
О диагностике
Серьезных замешательств при постановке диагноза во время вскрытия у патологоанатома практически не бывает: обычно все видно. Клиницист может сказать: «Пациент кашлял гнойной мокротой. Мы сделали рентген — вроде бы есть бронхит и эмфизема». То есть лечащий врач все видит только на картинках и может лишь предполагать. А когда мы разрезаем легкое, мы точно говорим: «Да, доктор, это бронхит и эмфизема. Вы были правы». Или наоборот. Неслучайно в медицинском мире бытует такая шутка: патанатом — лучший диагност.
Бывает, мы вскрываем человека и достоверно знаем, что у него гепатит С. При этом заболевании печень макроскопически, на вскрытии, будет не изменена. Но мы берем кусочки органов и проводим потом гистологическое исследование — тогда и можно поставить точный диагноз. Конечно, бывают редкие патологии, когда приходится запрашивать помощь клиницистов, их обследования мы тоже учитываем.
Об отношениях с врачами
Врач не должен надеяться на то, что патологоанатом чего-то не заметит. Это вряд ли случится. Когда мы видим, что человек умер не от того, от чего думал клиницист, мы всегда ставим расхождение. Даже если у меня с этим врачом хорошие отношения и мой диагноз грозит ему проблемами. Умалчивать нельзя: есть вещи, через которые невозможно переступить, иначе легко себя замарать.
Может быть, это немного самоуверенно, но я считаю, что патологоанатомы — как прокуроры в медицине. Поэтому не все клиницисты относятся к нам хорошо. У нас не бывает так, как в «Секретных материалах», когда одна несчастная дама все режет и что-то наговаривает в темноте на диктофон. На вскрытии всегда присутствуют доктора, ординаторы, аспиранты — куча народа. Все обсуждается коллегиально. Но бывают и парадоксальные случаи, когда лечащий врач кивает головой, соглашаясь с нашими доводами, а потом на клинико-анатомической конференции говорит, что ничего не видел и не согласен с патологоанатомическим диагнозом.
Об отношении к пациентам
Что касается недостатков нашей работы, то о них тоже узнают. Только редко сразу. Вот лежит биопсия простаты. Если я напишу в заключении, что у человека рака нет, пациента отправят домой. Если через полгода он вернется с опухолью, которая уже куда-нибудь проросла, мне придется отвечать перед судом. Поэтому если есть сомнительные случаи, я откладываю стекла, советуюсь с коллегами. Чтобы не дай бог не промахнуться. Потому что за каждым стеклом стоит пациент. Когда патологоанатом перестает это понимать, ему нужно сменить профессию.
Наша работа иной раз бывает страшной. В моей практике была девочка, которой косметологи удалили какое-то образование под глазом, у нее появилась незаживающая язва. Пациентку это беспокоило только как косметический дефект. Она обратилась в нашу челюстно-лицевую хирургию, мне прислали фрагмент ткани из этой язвы, а там оказался плохо дифференцированный плоскоклеточный рак. Я в панике позвонила врачам, сказала, чтобы они быстро разыскали девочку, прислали ее в лабораторию за материалом и направили в онкоцентр на дообследование. Мы переживаем за пациентов, материал которых нам присылают.
Если пациент провел в больнице меньше суток (слишком короткий срок для постановки диагноза), если врачу неясен диагноз, если пациент погиб на операционном столе — в этих случаях вскрытие проводится обязательно
О родственниках и прокуратуре
Наши протоколы вскрытий регулярно забирают в прокуратуру, если родственники подают на лечащих врачей в суд. Сейчас в России это уже не редкость, и в целом я считаю такое явление хорошим. Но некоторые люди начинают использовать эти дела в своих интересах. В одной из наших клиник лежала женщина с массивной опухолью пищевода. Ей делали операцию, но фактически это был паллиатив: она не могла глотать, ей убрали опухоль, часть пищевода, сделали пластику, чтобы хоть как-то облегчить ее страдания. Я вскрывала эту пациентку — операция была проведена идеально, но во внутренних органах уже были метастазы. Все, в общем-то, было однозначно. Однако у пациентки оказались очень странные родственники, которые не навещали ее, пока она находилась в больнице. Только муж как-то контролировал процесс, а дочь не приходила вообще, хотя женщина лежала месяца два. Дочка потом сказала, что не могла видеть маму в таком состоянии; но когда больная скончалась, все родственники страшно активизировались и стали предъявлять врачам массу претензий, в том числе они хотели выяснить, не забрали ли у женщины органы на трансплантацию. Это была жутко грязная, безумная история. Родственникам я много раз объясняла, что лечащие врачи все сделали правильно. Надеюсь, прокуратура разберется в этом деле.
Когда имеешь дело с детьми, это, конечно, более волнительно. Я очень не люблю вскрывать детей. Особенно когда сын был маленьким, это всегда было стрессом для меня. Однажды в нашей больнице умер новорожденный мальчик, который прожил всего пару дней. Он родился, сначала все было хорошо, потом возникла лихорадка, врачи диагностировали пневмонию, но вылечить не успели. Это было очень неожиданно, и никто не понимал, как такое произошло. Выяснилось, что ребенок получил сепсис, заразившись, когда проходил по родовым путям матери. У мамы потом постфактум обнаружили Escherichia coli в колоссальных титрах. Это бактерия, которая в норме живет в кишечнике. После родов у пациенток бывает иммуносупрессия, и у мамы началась воспалительная реакция, эндометрит (воспаление матки. — БГ). Мы провели исследование и подтвердили, что ребенок заразился от мамы, притом что до родов мама чувствовала себя хорошо, бактерии никак себя не проявляли. Когда мы объяснили, в чем причина, родственники успокоились, хотя до этого обещали всех засудить. В такой ситуации никто не виноват, и врач, который вел беременность, не мог увидеть ничего критичного.
Об отказе от вскрытия
Практически любого пациента разрешается не вскрывать, но есть рамки, за которые выходить нельзя. Если пациент провел в больнице меньше суток (слишком короткий срок для постановки диагноза), если врачу неясен диагноз, если пациент погиб на операционном столе — в этих случаях вскрытие проводится обязательно. Но бывают ситуации, когда по религиозным соображениям или завещанию это нельзя делать. И тогда, если неясен диагноз, врачи беседуют с родственниками, пытаются их переубедить, потому что причина смерти должна быть выяснена обязательно. Иногда родственники пишут отказ от вскрытия, а потом приходят и говорят: «А почему мы отказались? У нас теперь сомнения есть». И что с ними делать? В Советском Союзе умерших вскрывали практически всегда. Потом все изменилось, но сейчас по Москве началась тенденция к тому, чтобы вскрывать пациентов. Может быть, люди стали более грамотными и реже пишут отказы. Ведь только так родственники могут узнать, обоснованно ли они недовольны действиями врача. Конечно, иногда очевидна причина смерти, но так как родственники не пишут отказ, мы делаем вскрытие бабушкам и в 98 лет, и в 102 года. Это какие-то абсурдные ситуации.
То, что в мусульманском мире нет вскрытий, — это колоссальный минус. Мне рассказывал один студент из Иордании, что у хирургов там в профессиональном плане проблем нет, так как нет вскрытий. Но больницы охраняют бэтээры с вооруженными солдатами, потому что в арабском мире вопросы решаются по-другому: в случае неудачной операции с врачом разбираются родственники.
Все наши студенты проходят через кафедру анатомии, и никто с ума не сходит. А там круче, чем у нас: разорванные мышцы, руки, ноги отдельно — со всем этим ты работаешь на занятиях
О «черной трансплантологии»
При вскрытии у человека невозможно изъять органы для трансплантации. Уже через несколько часов после смерти начинается аутолиз — разрушение клеток. Обычно у нас проходит достаточно большой промежуток времени между смертью и вскрытием: человек умирает, несколько часов он находится в отделении, потом его переводят в помещение с холодильными установками, оформляются бумаги (закрывается история болезни, пишется посмертный эпикриз, расписывается масса людей), заказывается перевозка, чтобы отправить тело в морг. И при вскрытии такие органы уже никому не нужны. Когда орган действительно хотят кому-то пересадить, его забирают буквально в условиях реанимации. Как показывают в кино, так оно и делается: человека со смертью мозга отключают от аппаратуры, тут же берут органы, все бегут бегом, чтобы только сохранить в этой почке или печени остаточное кровоснабжение.
О моральных особенностях работы
Мне кажется, любой студент может стать патологоанатомом, если он не кисейная барышня. Все наши студенты проходят через кафедру анатомии, и никто с ума не сходит. А там круче, чем у нас: разорванные мышцы, руки, ноги отдельно — со всем этим ты работаешь на занятиях. К тому же наша основная работа проходит не в морге. Преимущественно мы занимаемся биопсиями.
Единственное, что мне очень не нравится, — это ранние вскрытия (в течение нескольких часов после смерти). Да, при них патология представлена более ярко, и за границей их практикуют. У нас все иначе, но иногда бывает так, что тело лежит в клинике недолго, и его привозят к нам через 6 или 10 часов, когда тело еще сохраняет естественное тепло. Если приходится вскрывать такого пациента, меня просто выворачивает. Это ужасные ощущения: ты работаешь будто бы с живой плотью, чувствуешь себя маньяком. В такие моменты проще осознать, что этот человек еще недавно жил, может быть, вчера ел суп, разговаривал с друзьями. Но лечащим врачам еще сложнее: у них это чувство есть всегда. Они вчера общались с пациентом, он рассказывал, как себя чувствует, какие у него внуки, а сегодня врач приходит на его вскрытие. Это, мне кажется, более серьезный стресс.
О судебной медицине
Есть специальности, которые имеют бóльшую специфику, чем наша. Далеко не каждый врач может стать судебным медиком. Я бы в этой области, наверное, работать не смогла: часто приходится иметь дело с телами, лежавшими долго и не при низких температурах. Смертями дома (за исключением тяжелых болезней, подтвержденных поликлиникой) или на улице должен заниматься человек, заточенный на исследование насильственной смерти, то есть судмедэксперт. Патологоанатом от этого ужаса дистанцирован. Мы работаем с пациентами из клиник, лечеными, ухоженными, про них все известно. А судебная медицина — это страшно, ты чаще всего имеешь дело с трагедиями. Одно время у нас был общий морг. Когда я училась в аспирантуре, мы шли в секционный зал через помещение, где лежали тела, привезенные на судебные вскрытия. То есть ты идешь между повешенных или обгорелых — жутко. Поэтому я всегда шла и смотрела в потолок.
Об опасностях на работе
Единственная серьезная угроза в работе патологоанатомов — это контакт с неадекватными родственниками. Бывают ситуации, когда пациента надо вскрывать, врачу что-то непонятно, а родственники категорически против. У нас в прозектуре были такие случаи, когда доктору кричали: «Да мы тебя зарежем — только подойди к этому телу!» При серьезных инфекциях (чуме, холере) предусмотрена особая форма вскрытия: все проходит как в американских фильмах — патологоанатом облачается в костюм с автономной подачей кислорода и идет работать. Пациентов с гепатитами и ВИЧ тоже вскрывают в совершенно особых условиях. Опасности контакта с трупным ядом нет, потому что этого яда нет в природе. В СМИ иногда мелькают истории про базаровых, которые заражаются при вскрытии. Думаю, это все неправда — у хирурга в этом плане больше опасности. Патологоанатом может надеть несколько пар перчаток, а хирург работает в одних. Мы можем использовать кольчужные перчатки, чтобы не порезаться. Мы еще надеваем щитки, как у стоматологов, разовые халаты. Из всех нас разве что люди, занимающиеся туберкулезом, работают в очень тяжелых условиях. Просто микобактерия, с которой они чаще всего имеют дело, отличается колоссальной выживаемостью, ее очень тяжело убить.
Об учениках
Большинство преподавателей ПМГМУ — и педагоги, и врачи. Это правильно, потому что мы занимаемся со студентами (наше второе образование — педагогическое), но мы имеем и медицинские дипломы. Если преподаватель не смотрит биопсии, не производит вскрытия, он не сможет полноценно объяснить студенту суть какого-то патологического процесса. Я стараюсь донести до студентов все, что я знаю, — не только в рамках тем, которые мы разбираем. Меня радует то, что ты кому-то можешь передать знания. Те патологоанатомы, у которых нет студентов, будто бы роняют знания в сухую почву. Я в этом плане счастливый человек. У нас, например, есть девочка, которая пришла на кафедру из-за меня: я занималась с ее группой, эта студентка увлеклась патанатомией, ходила к нам в прозектуру, закончила в итоге нашу ординатуру и пошла в аспирантуру, сейчас смотрит со мной биопсии. Это замечательно, когда у тебя есть ученик в полном смысле этого слова.
О тестовой системе
В медвузах больше всего экзаменов и дифзачетов — такого нигде нет, ни в одном техническом или гуманитарном вузе. Некоторое время назад сравнивали это количество, и выяснилось, что медики сдают в 1,5 раза больше экзаменов и зачетов. Сейчас студенты вынуждены готовиться не только к экзаменам, но и к тестам. Перед тем как идти на устное испытание, человек читает книжку, а потом пытается донести до преподавателя свое видение проблемы. Это требует клинического мышления, развивает студента. А для тестов нужно механическое запоминание ответов, которое отнимает массу времени. Это легко дается тем, у кого хорошая зрительная память. Просто прочитать учебник и справиться с тестом невозможно. К сожалению, сейчас абсолютно на всех наших кафедрах тестовая система. Но я считаю: студенту проще доказать, что он знает, глядя преподавателю в глаза, поэтому на тесты я смотрю в последнюю очередь. Есть студенты, которые говорят, что просто не могут справиться с такими заданиями, запомнить ответы, и я их спрашиваю устно по тем темам, которые есть в тестах. Такая система не то что деструктивна — она тяжела для студентов.
О плохо изученных заболеваниях
Если анатомия и считается мертвой наукой, в которой уже все ясно, то о патанатомии так сказать нельзя: мы занимаемся болезнями. Есть еще очень много нозологий, о которых мы вообще ничего не знаем, в курсе только каких-то проявлений. Например саркоидоз. Да, мы имеем представление о том, какие его формы есть, как он проявляется. Но до сих пор нет четкой концепции ни этиологии, ни патогенеза — почему он развивается? Еще есть, например, первичная лимфома головного мозга — очень редкое заболевание. Непонятно, почему она развивается — ведь в головном мозге нет лимфоидной ткани. В литературе описаны такие случаи у людей при ВИЧ-инфекции. А мы наблюдали нескольких неинфицированных пациентов с такой лимфомой. Подобных проблем очень много, поле для исследований широкое, но финансирование науки не очень хорошее, поэтому иногда приходится делать все за свои деньги.
Есть группа заболеваний мочеполовой системы, которая касается врожденной патологии развития почек и сосудов. Сопоставление нарушений работы почек и сосудистой патологии довольно интересно, и это стало темой моей научной работы. Если бы я занималась только ею, я бы уже защитила две диссертации. Но так всегда бывает, что у женщин защита проходит позже, чем у мужчин, по понятным причинам.
При серьезных инфекциях (чуме, холере) предусмотрена особая форма вскрытия: все проходит как в американских фильмах — патологоанатом облачается в костюм с автономной подачей кислорода и идет работать


